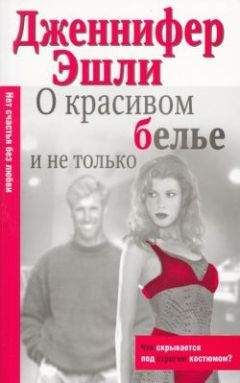В ночь перед казнью Кролик проделал дырку в загоне и бежал. Его пытались остановить, но он бросился на хозяина, белорусского человека, оккупанта, последовательно проводившего геноцид литовских кроликов. Он бросился на него и стукнул врага головой в нос. Потом он полз как солдат-пластун, он прижимал уши и поводил носом как сапер, потом он бежал, подкидывая задик как трофейщик, и, наконец, несся, как иные кавалерийские скаковые кролики.
Никто его с тех пор не видел.
Вот и бродит по городам и весям беглый Кролик. Он проходит, невидимый, через границы, он говорит со своими братьями, и другие кролики присылают ему ходоков. Такие дела.
Тут странной притче Синдерюшкина пришел конец, но одновременно за кустами завыло и заскрежетало. Приближалось что-то огромное и страшное — но когда оно вынырнуло на поляну, оказалось, что это поезд из двух вагонов.
IX
Слово о том, что кролики не всегда то, чем они кажутся.
Вагоны были совершенно обычные, но только очень старые и скрипучие. В углу у двери обнаружилась куча березовых веников. Синдерюшкин нагнулся к этой куче и сказал ласково:
— Здравствуйте, дедушка! С почином вас!
Из кучи высунулась борода, и тоненький голосок ответил:
— Ну а как же-с! На Аграфёну Купальницу-с! А ранее — никак не можно-с….
Я представил себе мир вагонных существ, существ, живущих наподобие домовых в идущих и стоящих поездах, но рассказывать я ничего никому не стал — тем более, что Гольденмауэр сам начал говорить.
— Все-таки, Ваня, — сказал он, обращаясь к Синдерюшкину, — все-таки не понимаю я твоего чувства к кроликам. Я кроликов боюсь. Они загадочные и непонятные. Вот гляди — сейчас все смешалось — ирландский католик совсем не то, что бразильский, а американский — не то, что немецкий. Не говоря уже о протестантах. Все действительно смешалось, как гоголь-моголь в доме Облонских. И повсюду эти кролики — вот жил я как-то в иностранном городе К., и там под Пасху всегда обнаруживалось много чего загадочного. Вот, например, история с кроличьими яйцами. Сколько и где я ни жил, но никто мне не сумел объяснить, почему символом Пасхи во всей Европе является заяц с яйцами. То есть не в том дело, что заяц не кастрат, а в том, что он яйца либо несет в котомке, либо среди них, яиц, этот заяц радостно лапами разводит. А сидят эти уроды по витринам, и яйца лежат у их ног или лап, будто бракованные пушечные ядра...
Сидят эти шоколадные, кремовые, плюшевые и глиняные зайцы с шоколадными, кремовыми, плюшевыми и глиняными расписными яйцами — и никто не может мне объяснить этого причудливого сочетания.
— Зайцы рифмуются с яйцами, — жалобно сказал я.
— Только в русском языке3, — мгновенно отреагировал Гольденмауэр.-— А с другими символами как-то проще. С вербами (как, кстати, и с елками) понятно — климат.
А вот яйца с зайцами... Плодятся эти зайцы как кролики по весне, недаром они размножались под радостным посвящением Venus. Все кролики носятся туда-сюда со своими и чужими яйцами.
Мария Магдалина, что принесла императору Тиберию округлый плод птицеводства, услышала в ответ, что скорее белое станет красным, чем он поверит в воскрешение из мертвых. Налилось куриное яйцо кровью, и все заверте…
Гольденмауэр нас изрядно напугал. Мы не обратили внимания на кондуктора, даже если это и был кондуктор. Мы не испугались человека, что вез, прижимая к груди, огромный могильный крест. Крест был сварной, из стального уголка, крашенный противной серебряной краской — но что нам было до него, когда придут кроли-кастраты, и всем трындец. Мы даже не обратили внимание на двух дачников, на головах у которых были пасечные шляпы с опущенными пчелиными сетками.
— Да уж завсегда кровью-то нальется, — сказал бывалый Рудаков.
— Не перебивай, — шикнул на него Синдерюшкин.
— Итак, — продолжал Гольденмауэр свою пафосную речь, сам не заметив, как встал и вышел в проход между сиденьями. Замахали кисточками миллионы лакировщиков действительности, замигали светофорами нерожденные цыплята. Все это понятно по отдельности, но сочетание суетливых ушастых грызунов, что катят перед собой эти разноцветные символы, будто жуки-навозники, меня пугает.
Все-таки все это не дураки придумали. Вовсе нет.
Все это возвестие какого-то масонского заговора, а размер и форма яиц-— тайные знаки. А уж когда настанет Пасха, в которую на углу Durinerstrasse заяц будет сидеть без яиц, — нам всем кранты. Это говорю вам я — в вечер накануне Ивана Купалы, в особое время года.
И уж тогда — туши свет, сливай воду.
И с радостью мы поспешили к выходу, лишь только Синдерюшкин махнул нам рукой. А пассажир, спавший в обнимку с могильным крестом, поднял голову и подмигнул нам.
Когда мы спрыгнули с подножки, закат уже был окрашен — так, будто в облаках невидимые повара мешали кетчуп с майонезом.
X
Слово о расстановке шпал и правильном выборе дороги.
Утих дальний звук поезда. Чувствовалось, что по этой заброшенной ветке поезда ходили редко. Рельсы лежали ржавые, и сквозь них проросла густая мертвая трава. Побрели мы дальше.
— Что я, волк, что ли? — сказал Рудаков, вспомнив наши утренние разговоры.
И тут же кто-то завыл за лесом.
— Да уж, ты не волк, пожалуй, — успокоил его Синдерюшкин. — По крайней мере, пока.
Пришлось снова идти по шпалам.
— Ну ты, профессор, — сказал мстительный Рудаков, — а вот скажи, отчего такое расстояние между шпалами?
Мы-то, конечно, знали, что это расстояние выбрано специально, чтобы такие лоботрясы, как мы, не ходили по шпалам и не подвергали свою жизнь опасности, а тащились вдали от поездов — в глухой траве под откосом.
— А по двести шпал на километр — вот и вся формула, — ответил Гольденмауэр хмуро.
— Тьфу, — плюнул Рудаков точно в рельсу. — Никакого понимания в человеке нету. Чистый немец.
Вдруг все остановились. Рудаков ткнулся в спину Синдерюшкина, я — в спину Рудакова, а Гольденмауэр со своей спутницей вовсе сбили нас с ног.
— Ну, дальше я не знаю. — Синдерюшкин снова уселся на свою рыболовную урну и закурил. — Теперь ваше слово, товарищ Маузер. То есть теперь ты, Рудаков, поведешь. Ты, кстати, помнишь-то, как идти?
— Чего ж не помнить, — ответил Рудаков, но как-то без желаемой нами твердости в голосе. — Сначала до соснового леса, потом мимо кладбища — к развилке. А там близко. Там, на повороте, стоит колесный трактор. Налево повернем по дороге — там и будет Заманихино.
Мы спустились с насыпи и двинулись среди высокой травы по низине. С откоса на нас лился туман — там за день, видно, была наварена целая кастрюля этого тумана.
Шуршали хвощи, какие-то зонтичные и трубчатые окружали нас.
— Самое время сбора трав, — сказал мне в спину Гольденмауэр, собственно, ни к кому не обращаясь. — Самое время папорть искать. Ибо сказано: “Есть трава черная папорть; растет в лесах около болот, в мокрых местах, в лугах, ростом в аршин и выше стебель, а на стебле маленькие листочки, и с испода большие листы. А цветет она накануне Иванова дня в полночь. Тот цвет очень надобен, если кто хочет богатым и мудрым быть. А брать тот цвет не просто — с надобностями, и, очертясь, кругом говорить: “Талан Божий, се суд твой, да воскреснет Бог!”.
Нехорошо он это сказал, как зомби прямо какой. Так в иностранных фильмах говорят чревовещатели.
Я был благодарен мосластой, которая, видимо, ткнула Леню кулаком в бок, и он заткнулся.
Травы вокруг было много, трава окружала нас, и я сам с ужасом понял, что неведомый голос нашептывает мне — бери траву золотуху, бери-— ой, растет золотуха на борах да на Раменских местах, листиками в пядь, ни дать ни взять, а суровца не бери, не бери, не ищи его при водах, береги природу, а возьми-ка шам, что листочки язычком, как в капусте с чесноком. Ой да плакун-трава ворожейная, а вот адамова голова, что власти полова, а вот тебе девясил, что на любовь пригласил. Эй, позырь — разрыв-трава, что замкам потрава, воровская слава. Или тут, за бугорком — ревака, что спасет в море во всяком. Земля мати, шептали голоса, благослови мя травы братии, и трава мне мати!
— Но, — и тут в ухо мне, никчемному человеку, старшему лесопильщику, да еще и бывшему, кто-то забормотал: — Тебе-то другое, не коланхоэ, не карлик-мандрагора, найдешь ты споро, свой клад и будешь рад — коли отличишь вещее слово, выйдя как работник на субботник — папортник или папоротник?