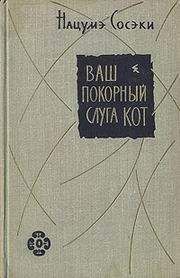— Мы когда-нибудь избавимся от этого ящика? Тоже мне еще памятник войне…
Мать недобро глянула на меня:
— Это же хлеб… Что ж его — выбрасывать? С ним по-людски надо.
— По-людски его давно полагалось съесть.
Мать рассердилась и много-много дней не разговаривала со мной. Только позднее я поняла, что обидел ее не мой дерзкий тон, а то, что я назвала правду, которая, видимо, не раз уже обжигала и ее, и отца. Позднее же, вспоминая брошенный матери укор, я часто думала, какого же горя и голода она хлебнула с нами в войну, если столько лет жила, не веря в завтрашний хлебный стол.
Воскресным вечером всей семьей мы возвращались с садового участка, который выделили отцу и где мы обычно копались все лето. Усталые, грязные, поднялись на свой этаж, всерьез споря о том, кто первым полезет в ванну. Открыли дверь, перешагнули порог и попали в лужу. По всему полу растекалась вода. Ничего не понимая, кинулись к кранам.
Но затопило нас сверху. С кухонного потолка капало, как в бане. Пахло мокрой пылью и отсыревшей известью. Намокшее одеяло тяжело свисало с ларя, подушка стала совсем плоской.
Отец помчался бить тревогу. Я тоскливо думала о предстоящем ремонте. А квартира была побелена по старой маминой традиции к пасхе, всего месяц назад.
Мать между тем стянула на пол одеяло и подушку, откинула крышку ларя и утопила обе пятерни в зерне. Потянуло затхлым. Из возникших воронок шел легкий парок. Не вынимая рук из пшеницы, мать обессиленно опустилась на мокрый пол и заплакала. Мы стояли над ней и вчетвером твердили, что все к лучшему, что отец, оказывается, уже обещал зерно кому-то, что его можно, наконец, высушить и на балконе. Чем больше мы утешали, тем мельче подрагивали ее плечи. Мать плакала горько и скорбно, как над покойником, положив голову на зеленый борт ларя. Коса ее сползла с затылка и висела над зерном, и кончик кисточкой выглядывал из-под запястья. Коса у мамы была темной-темной, а на висках уже просвечивала седина, и на нее с потолка продолжали глухо падать крупные капли воды.
Пшеницу мы высушили и продали за бесценок знакомым, жившим в индивидуальном доме. Хозяин подогнал к подъезду старенькую «Победу», погрузил зерно и попросил меня поехать с ним и придерживать мешки на сиденье.
Хозяйка суетилась на подворье. Из первого же мешка она черпанула ржавой тарелкой и высыпала зерно посреди двора. Десятка три кур тут же слетелись на праздник, словно дети к новогоднему мешку Деда Мороза. Петух горделиво расхаживал по кругу, похлопывал крыльями, говорливый и довольный, будто это он принес нежданный подарок и созвал всех на застолье.
Я сначала весело поглядывала на куриный пир и улыбалась. Но чем дольше я смотрела на счастливую птичью возню, тем смурнее становилось на душе, тем понятнее были недавние слезы матери. Конечно, не о самом зерне она плакала, а о том, что связывало с ним всю семью: о праздниках, не подаренных нам, о боли в сердце, когда соседка заводила разговор о мельнице, о черном послевоенном хлебе, замазкой липнущем к ножу, о белых крошках, которые мы сметали себе в рот со стола, когда отец, поев, выходил из кухни, об отце, который давился белым хлебом, когда мы ели черный, о себе, своей бестолковой бережливости, которой не было прощения.
Я сидела на крыльце и чувствовала, что тоже вот-вот заплачу, что какая-то из кур под моим взглядом вот-вот поперхнется и подавится лишним зернышком.
Когда я с деньгами и сумкой свежих яиц впридачу вернулась домой, ларь уже был разобран и вынесен в подвал. Сестра домывала освободившийся угол. Пол и стены там были другого цвета. Мать грустно и отстраненно смотрела на пустое пространство, и кухня обрастала ее молчанием, как горьковатым дымом.
А на столе, надежно, бок о бок, стояли две свежие булки хлеба, только что принесенные из магазина.
Ветер так сильно хлопнул за Сергеем дверью, что он оглянулся: ветер ли это.
А в приемной родильного дома было светло, тесно и жарко. Он пристроился к очереди, поставил сумку на подоконник, снял шапку, расстегнул пальто. Сергей уже знал: ждать не меньше часа.
Приемщица Зиночка привычно и ласково ворчала на всех, пропевая гласные:
— Ну куда, спрашивается, столько принесли? У нас на палату один холодильник, а вам персональный надо. Сливки возьму, а молоко завтра принесете. И чтобы свежее, а не это.
— Завтра же праздник, — удивлялся голос у стойки.
— Ничего, один праздник без выпивки обойдетесь, — громко выговаривала Зиночка и доверительной улыбкой приглашала очередь поддержать ее. Человек у стойки растерянно оправдывался:
— Да я что? Я с удовольствием, если вы работаете по праздникам.
— Мы бы рады не работать, да вот жены ваши рожают без всяких графиков.
Зиночкины руки весело укладывали в пластмассовую корзину пакеты и бутылки, а очередь добродушно посмеивалась: очень ей нравилась эта проворная девчонка в белом халате, надетом на полуголое тело. Наверно, с нее, голубоглазой, смешливой, и начиналось всеобщее благодушие в приемной. Люди запросто вступали в разговор, как соседи, которые случайно встретились на лестничной площадке и вот могут между шуткой и делом узнать друг у друга о здоровье, житье-бытье, дать небольшие советы, поделиться опытом и расстаться до следующей встречи. Они говорили о детском питании, кроватках, колясках, отсутствии сосок в аптеке и с особым интересом — о весе новорожденных, и моде на имена, часто удивляясь тому, что существует и такая мода. Всех этих людей объединяла одна радость, и все они были как-то причастны к тому, что за белой стеной, куда им нет дороги, начиналась новая человеческая жизнь. Иногда там, внутри здания, открывалась какая-то заветная дверь, и доносился такой настойчивый хоровой плач, что все переглядывались и улыбались до ушей. Никакой другой плач на свете не способен вызвать столь безудержно-радостных улыбок. И трудно было представить в квадрате окна кого-то, кроме Зиночки, юной и чистой, с ее снисходительным пониманием всех и каждого, что забавно противоречило ее девчоночьему возрасту.
— У вас что? Так, это можно. Апельсины съешьте сами. Шоколад тоже. Записку, пожалуйста. Следующий.
— Нет, подождите. Как это: съешьте сами? Она любит это. Почему нельзя ни шоколад, ни:..
— Она, папочка, теперь любит не шоколад, а вашего сына. Или у вас дочка? Тоже хорошо. Вон там, на доске, есть советы молодым папашам. Прочтите на досуге. Кто дальше? У вас что? Мед? Хоть один догадался. Яблоки тоже прекрасно. И морковь пойдет, это лучше шоколада.
Столь высокая оценка обыкновенной моркови смутила папашу, почти мальчика, которому вернули апельсины и шоколад. Старушка в большой вязаной шапочке, чистенькая, как новый школьный учебник, принялась ему рассказывать об аллергии у детей. Паренек с обиженным видом выслушал ее и, пожав плечами, сел на стул у противоположной стены, даже не обратив внимания на то, что все стоят, когда стулья пустуют.
За Сергеем в очередь встала женщина, которую он уже видел вчера и с ходу окрестил «тещей». Она еще с порога громко заговорила то ли с ним, то ли с собой, то ли со всеми сразу:
— Ну погодка! Погодка так погодка! Ветер сшибает, ну прямо как выпимший мужик. А-а, здорово! Опять мы с тобой рядом? Глядишь, так и породнимся. У тебя кто?
— Сын.
— О! А у меня внучка! — обрадованно распахнула теща ладони.
Папаша, неосмотрительно севший у стены, потрогал пальцами трубы отопления и встал:
— Ну и топят!
— А как же! Мальцы же там, — построжала теща. Она расслабила на шее пуховую шаль и, тяжело дыша, распахнула пальто. Из-под него выглянул пестрый ситцевый передник, доходящий почти до колен. Молчать теще было скучно, и она снова не то Сергею, не то себе пожаловалась:
— Плохо рожать зимой. Летом другое дело — шумнешь в окно, и все. И что вы, мужики, под лето не подгадали? Не парились бы здесь по целому часу. Я-то их не боюсь — батареев этих. Пускай греют. Меня холод не прошибет и жара не вытопит. А вытопит — тоже слава богу. Приду к врачихе своей, вот, скажу, в роддоме вес сбросила. А то она все меня против хлеба настраивает, — довольная женщина брызнула суетливым и дурашливым смехом, и все заулыбались. Теща опустила большое тело сразу на два стула. Они заскрипели, а с ними и соседние, сколоченные в ряд, как в кинотеатрах. — Сумку-то убрать подальше от тепла, а то там яйца. Как бы не нагреть снохе цыплят.
— Из вареных не вылупятся, — скупо возразил мужчина из очереди.
— Она у меня сырые пьет. Вот куры нынче насе́дали, я и принесла свежие.
— Поет, что ли, сноха?
— А чего ж не петь, коли выпьет? Поет. Я и сама попеть люблю. О, кормилица пришла!
В квадрате оконца появилась Зиночка. Она смешно косила, словно хотела поймать краешком глаза русые завитушки на висках. Концы накрахмаленной косынки сухо шелестели, как бумажные салфетки.