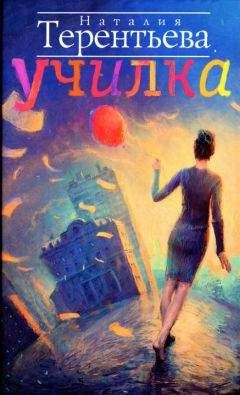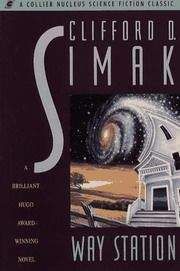Ознакомительная версия.
— Помню-помню, как же, как же, — засмеялся мой брат. — Ни объевшихся мажоров, что хорошо, потому как им, наглым, все сходит с рук. Ни евреев, что плохо.
— Конечно, плохо — они способные, воспитанные и мотивированные.
— Что там у вас с объединением, кстати? Объединили в результате или отбились?
— Не отбились. Многонациональная школа теперь будет.
Мы еще поговорили с Андрюшкой о том — хорошо или плохо, что наша школа сливается, волевым приказом чиновников, с соседней, где раньше учились дети приезжих, в основном из Средней Азии и Предкавказья. Андрюшка все больше смеялся — как он делает всегда, когда ничего изменить не возможно.
— Пойдешь на митинг? Взять тебе разрешение? Организуешь активисток, покричите, помашете плакатами…
— Андрюш… Бессмысленно.
— Ну вот, тогда терпи. Зато теперь у вас в районе нет «школы для черных». Это же здорово! Раньше было очень обидно. Правда, очень плохое название. А теперь никому не обидно.
— Ты знаешь слово? Как назвать, чтобы не обидеть?
— Нет. «Приезжие».
— И я не знаю.
И Андрюшка завелся на одну из своих любимых тем. Я не стала останавливать. Меня это тоже волнует, мне тоже интересно, и особенно интересно слышать это в интерпретации моего умного брата.
— У нас ведь пока не придуман политкорректный термин для людей, приехавших в Москву на заработки из республик нашей бывшей безграничной социалистической империи, — рассуждал Андрюшка. — «Гастербайтер» не охватывает всей массы черноголовых людей, выглядящих не так, плохо говорящих по-русски, людей совсем иной культуры и не имеющих никакого отношения к нашей культуре, к нашему прошлому. Многие приехали временно и не скрывают этого. Кто-то хотел осесть и осел. Кто-то живет в своей диаспоре и другой жизни не хочет. Некоторые старательно учат русский, женщины красятся в блондинок, дети уже совсем хорошо говорят и пишут по-русски. Но таких мало. Американцы придумали термин «афроамериканец». Негра нельзя назвать негром, он обидится. А наших как называть?
— Может, «азироссияне»? — встряла я.
— Остроумно! — хмыкнул Андрюшка.
— Или «ксенороссияне»? Хотя думаю, что латинский корень «ксен» — «чужой» — обидит.
— Обидит, наверняка, — согласился мой брат. — Никто не захочет называться чужим. Обидится. За ножом полезет. Мне, правда, важнее, чтобы сохранилась русская нация хотя бы в том виде, в каком она пришла к третьему тысячелетию. Гораздо важнее, чем обидеть термином или даже отношением людей, которые приехали сюда, бросив свои виноградники и овец, чтобы быстро и гарантированно заработать деньги.
— Виноградник может засохнуть, — поддакнула я, — овца — заболеть, а пятнадцать тысяч рублей за подметание моего двора московское правительство всегда заплатит.
— Анюта, мы преувеличиваем — у многих приехавших нет ни овец, ни виноградников. У них ничего нет — ни там, ни здесь. Они тут не от хорошей жизни.
— Но что ж теперь — всем, вообще всем, у которых ничего нет, — ехать в Москву? По моему городу собираются пустить 340 километров наземного метро. А москвичи не стали рожать больше, они стали рожать меньше (мы с тобой не в счет), потому что теперь труднее и страшнее жить. И вообще, и в Москве в частности. Москву перережут рельсами, понастроят воздушных путей для поездов, для того, чтобы по ней могли перемещаться миллионы тех, кто бросил — да, Андрюша! — своих овец и свои виноградники и приехал сюда, ко мне жить.
— Ксенофобия, Анюта, — вздохнул мой брат.
— Да почему? Ну я же не еду туда — возделывать чужие брошенные виноградники?
— Анюта, меня так же как тебя, как и многих русских, пугает второе татаро-монгольское нашествие. И я понимаю, что независимо от моих опасений, от реальной угрозы и роста преступности, и подмешивания крови, и даже потери национального самосознания существует какая-то, увы, неизвестная даже мне договоренность на правительственном уровне.
— Да, я новости слушаю через раз, но очень внимательно. И думаю, что это не может быть просто разгильдяйством и равнодушием наших моложавых, смело говорящих на языке улиц властей.
— Анюта, — засмеялся брат, — не обостряй.
— Я не обостряю. И фамилий не называю. Из трусости. У меня двое детей. Но я слышала, правда, своими ушами, Андрюша, как нынешний премьер-министр обронил в эфире, что существует некая «квота» — шестьсот тысяч человек в год из Средней Азии принимает Москва. И в тот год — шестьсот тысяч, и в этот — уже миллион двести. Почему? Потому что наши люди «не хотят работать дворниками». Это правда?
— Я очень сомневаюсь, — заметил Андрюшка. — Помнишь — или ты, может, и не помнишь, но раньше было так: аспирант устраивался дворником, и за это ему давали дворницкую, при том, что он получал зарплату. Можно было отработать больше десяти лет дворником и получить жилплощадь в Москве. У меня так друг и кандидатскую защитил, и квартиру получил. Женька Смирнов, помнишь? Ты еще за него замуж отказалась выходить.
— Помню, — засмеялась я. — За дворника-кандидата наук, даром что твой друг был, еще один…
— Ну да, тебе мои друзья в мужья никак что-то не подходят. А что касается двор подмести и квартиру получить, так с теми сумасшедшими ценами на аренду жилья, которые у нас сейчас в Москве, полагаю, и нынешних аспирантов это бы тоже устроило. Сейчас бы на это пошли не только те, кто убежал из умирающих российских деревень и нашей глухой коматозной провинции, без дорог и Интернета и даже электричества местами, а и сами москвичи — у которых нет другой возможности хоть как-то расширить свою квартиру.
— Реальность сейчас другая, Андрюша. Помнишь, прошлой весной, когда только сказали об объединении школ — русских и нерусских, английских, немецких, математических спецшкол, отстающих, коррекционных, китайских интернатов, лицеев, гимназий, — у нас ведь родители протестовали. Это я дома бубнила, а другие устраивали пикеты, дорогу загораживали, письма писали царям-батюшкам, петиции подписывали, одна активная мама ночевала во дворе школы в знак протеста — дело было в конце апреля.
— Я помню — по телевизору даже показывали. И правда, мера странная, непопулярная — объединять школы и садики в плохо контролируемые, плохо управляемые конгломераты «учебных центров».
— На самом деле, в области культуры и образования вопросы экономики не могут решать всё.
— Да и кто сказал, — со вздохом согласился Андрюшка, — что огромным конгломератом удобнее управлять и его удобнее контролировать?
— И тем не менее нашу «русскую» школу объединяют с соседней, «многонациональной».
— А те дети — в основном мусульмане?
— Конечно. Многие соблюдают мусульманские праздники, по отношению к девочкам часто ведут себя так, как, вероятно, в их семьях ведут себя отцы — женщина не имеет права голоса.
— Она имеет право учиться, особенно работать, приносить в дом деньги, но перечить мужчине не смеет, — опять засмеялся Андрюшка. — Но, возвращаясь к нашим последним событиям, Анюта, четвероклассник Дубов ведь — не мусульманин?
— И даже не гость столицы, — подтвердила я. — Он русский, москвич. Не знаю, в каком поколении, но обычный московский паренек. Дрался бы он с моим ребенком один на один — и вопросов бы не было. А так вопросы у меня появились.
— Анюта, задай вопросы в школе, иначе они тебя взорвут.
— Обязательно задам.
На следующий день перед первым уроком я действительно подошла к учительнице Никитоса.
— Юлия Игоревна, надо бы, наверно, с мальчиками этими из четвертого класса разобраться, да? Маленькие, а такая зверская агрессия, трое на одного, до крови, до увечий… С психологами, например, с завучем поговорить…
— Да, Анна Леонидовна, — наша учительница отвела глаза. — Там как раз с вами хочет психолог побеседовать… О… проблемах… Никиты.
— Со мной? О проблемах? Забавно. Хорошо, я подойду к ней. — Я внимательно посмотрела на первую учительницу своих детей. — А ваша позиция какая, Юлия Игоревна?
— Для меня все дети равны, — ответила она и поправила большой воротник своей вязаной кофты.
— Равенства природой не предусмотрено! — засмеялась я. — Увы! Один девочек защищает, другой копеечки на полу подбирает, третий — тырит мобильные телефоны.
— А для меня, — Юлия Игоревна сильно покраснела, и ее неровная кожа приобрела слегка багровый оттенок — на скулах, на подбородке, — они все равны. Они все дети. Их нужно любить. Любовь — это Бог.
— У Никиты Воробьева голова пробита и рука сломана, Юлия Игоревна, — негромко заметила я. — При чем тут Бог?
Она взглянула на меня совершенно непонимающими глазами.
— Бог — везде.
— Хорошо, — вздохнула я.
— А дети все равны, — упрямо повторила учительница, теперь уже багровая до ключиц. — Все равны, для меня все равны…
Ознакомительная версия.