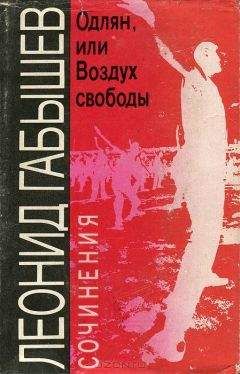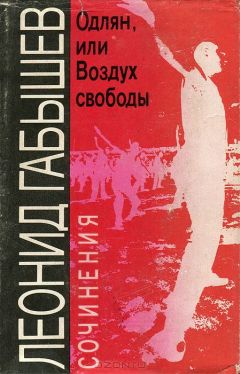Человек второго сорта, я боюсь навсегда остаться за бортом жизни. Одинокий, непонятый, презираемый всеми и всюду. Мои стихи — стихи второго сорта. Это все, что я умею делать в жизни. Они дают мне поддержку, но никого не волнуют и, как и я, никому не нужны.
Когда же я всеми силами пытаюсь выкарабкаться из этого замкнутого круга, смердящего нечистотами, из этого гадливого общественного нужника, меня безжалостно вталкивают в него вновь. Кому это нужно, где логика, где та правда, о которой у нас привыкли много и красиво говорить?
Юношей, застенчивым и инфантильным, подверженным романтике и фанатично увлеченным вопросами общественного развития, я мог вполне ошибаться. Да, я ошибся, что остался жить, что не застрелился, когда это было еще возможно…
Столкнувшись в местах заключения с преступным миром, который по своей природе мне чужд и противен, и чтобы не стать его пособником, не сойти с ума, не наложить на себя руки, так как жить с этими жалкими подонками смерти подобно, я жил призрачной мечтой о побеге, а когда терял ее — происходило самое страшное…
Не знаю, чудо ли, Провидение ли, счастливая ли звезда, под которой рожден, но в которую не верю, сохранили мне жизнь. Но для чего? Если мне, как и прежде, нет веры, если я всюду отвергаем, а в мое сердце впиваются чужие глаза презрения. А кто я вообще такой?
Я — это Мирко Болен (Стоянов) и Николай Широков (Шорохов), Андрей Томин и Алексей Сакулин, Алтайский или Стронций. В общем, особо опасный преступник, рецидивист. Впрочем, не стану понапрасну томить неведением.
Мирко меня называли мама и папа, которых я не помню. Всеми остальными пребывал по своей либо чужой воле. Мой папа, инженер-полковник вермахта Эрих Ридер фон Болен, в апреле 1945 года был похищен советскими разведчиками по пути следования в осажденный Кенигсберг. Его, получившего опасное ранение, направили в саратовский эвакогоспиталь для перемещенных лиц. Там моя будущая мама — Юлиана Стоянова — отрезала ему обе ноги.
После излечения — война к тому времени закончилась — папа не захотел возвращаться в Германию, и они поженились. По профессии папа горный инженер, и ему разрешили устроиться на Тырныаузский вольфрамово-молибденовый комбинат. Он работал над проблемой извлечения редких и ценных металлов из побочных и отработанных руд.
В 1948 году родился я, а в одну из майских ночей 1951 года, после того как папе удалось сделать важное открытие, в наш дом пришли незнакомые люди. Они убили папу и маму, а меня ранили двумя выстрелами в шею и грудь.
Когда я выздоровел, меня хотел забрать к себе в Западную Германию дедушка Эльбинг, состоящий в родстве с Альфредом Боленом, представителем одной из старейших ветвей артиллерийских магнатов Круппов, но ему меня не отдали. Приняла меня к себе тетенька Шорохова, которой папа и мама очень помогали. Ее муж, когда папу пленили, чтобы спасти важные документы, хранящиеся у папы в портфеле, прикрыл брошенную в них офицером папиной охраны гранату своим телом и погиб. Папе поранило только плечо и ноги. Тетенька Шорохова увезла меня к себе на Алтай.
У моей второй мамы было восемь детей. Оставшись вдовой, она жила очень бедно, а когда заболела, добрые люди помогли устроить меня в детский дом, хотя к тому времени мне едва исполнилось пять лет. Мне заменили метрики, указав в них, что я не Мирко Болен, а Николай Шорохов, и родился не в 1948 году, а в 1946. Иначе меня не приняли бы в детский дом.
Однако скрыть от общественности мое происхождение инициаторам подлога не удалось. Не прошло и нескольких месяцев, как в детском доме узнали, что мой папа был немецким офицером.
Однажды я услышал в спальне подозрительный шум и вслед за другими вбежал туда. Мальчишки, развязав мой узелок с незатейливым добром и тряпицами, оставшимися болезненной памятью о погибших родителях, с дурашливыми криками, с восторженным кривлянием и пританцовыванием победно бросали в разведенный прямо на полу костер фотоснимки папы и мамы, и те быстро распадались в пламени на затухающие блеклые угольки.
Потрясенный и разгневанный, дрожащий от охватившей меня жгучей обиды, боли и ненависти к ним, я подскочил к огню и выхватил из пламени только что брошенную в его пасть фотокарточку. Обезумевшая от злости ватага мальчишек со всех сторон набросилась на меня и с криком: «Бейте его — он фриц! Немец! Фашист!» — сбила с ног. Что происходило потом — не помню. Рассказывали, что взрослым едва удалось отнять меня у охваченных недетской ненавистью ребят. В тяжелом состоянии меня поместили в детдомовский санизолятор и долго, сокрушаясь о ЧП, выхаживали.
Конечно, на мальчишек обижаться было нельзя. Их родители либо умерли от голода, либо погибли на фронте, а мой папа был фашистом. Но я очень любил папу и маму и считал, что это их убили фашисты. Они и меня хотели убить, но у них не вышло.
А мальчишки приходили и стучались в окна и двери, обещая забить меня насмерть. Когда я начал шевелиться, догадливые девчонки обрядили меня девочкой, обманув въедливых мальчишек враками, что немчонка отправили в Барнаул.
В голубом платьице, с красивым белоснежным бантом, вплетенным в короткие вьющиеся волосы, я в самом деле походил на нарядную праздничную куклу. И мной забавлялись, как импозантной говорящей куклой. А когда поправился, лечившаяся в санизоляторе Лена Ирбитская с разрешения завуча детского дома и воспитателей увела меня к девочкам, и выдавала за свою сестричку Люсю, и долго опекала. И немногие из любопытных девочек догадывались, что я — тот самый фашист, которого жаждали убить мальчишки.
Но к Лене вернулся папа, и они уехали в Минусинск.
С отъездом из детского дома Лены многое в моей жизни изменилось. Рыжая Верка Григорьева, интригантка и завистница, нашептывала девочкам постарше о том, что она сама видела и клянется быть сукой, как Краля — Лена Ирбитская — клала к себе в постель немчонка — свою возлюбленную Люсеньку — и была с ним как муж и жена — совсем нагишом; и что она просто водила всех за нос, прикидываясь невинной благодетельницей и спасительницей гитлеренка, а сама каждую ночь забавлялась с ним под одеялом. И хотя в словах Верки, кроме бесстыдства, не было и крошечки правды, многие из девочек, проявлявших особый интерес к вопросам пола, охотно поверили ее вранью. И, кто смущенно, исподволь, а кто и напрямки, принялись домогаться «обворожительной мальчиковой любви». Заманив к себе под одеяло или прокрадываясь по ночам в мою кровать, они, не терпящие возражений, забавлялись мной: сдернув трусики и подняв ночную рубашку, цеплялись, щекотали, царапали и выкручивали во все стороны мальчишескую принадлежность, причиняя обидную и унизительную боль. Более сведущие и изощренные, запугивая выдать меня мальчишкам, требовали, чтобы я целовал их ножки в то место, откуда они растут. Нахальные же нарочно сикали в лицо либо, истерически вопя, принуждали пить это прямо из источника. Какое-то время, пересиливая боль и отвращение, сносил даже самые изощренные пытки, выжидая того часа, когда моей госпожой станет жестокая, бездушная ведьма Григорьева! О, эта лютая мегера в полную меру заплатила мне за свой коварный обман. Будто бешеная собака, я грыз и терзал зубами ее ослепительную невинность, пока от подернутой золотистым пушком прелести не остались рваные лохмотья. На этом был положен конец девчоночьему игу. Вернувшись из командировки, директор восстановил мои мальчишеские права, а рыжая ведьма отправилась в санизолятор…
Ко всему прочему, вступать в близкие контакты с девушками мне не доводилось. И не потому, что я какой-то урод либо неполноценный, просто как свою, так и всякую любовь считаю божественным даром и святым чувством.
Исходя из канонов профессионализма, мне сегодня следовало бы об этом горько сожалеть, потому что мне предстоит гонять порожняки или пургу[33] еще двадцать три месяца…
Мне порой чудовищно хочется забыться, раствориться, в жизни, войти в чужой, еще не открытый мне мир и почувствовать себя в нем очень нужным. Ведь для того чтобы приносить людям доброту, тепло и хотя бы маленькие радости, вовсе не обязательно быть каким-то необыкновенным и особенным человеком…»
Зазвонил телефон. Я снял трубку.
— Жора, я заждалась тебя. Что такое? — спросила Оксана.
— Пошел к тебе и подвернул ногу. Еле доковылял назад. Перетянул и теперь кукую, — ответил я.
Оксана вздохнула.
— Завтра сможешь прийти?
— Вряд ли. Теперь буду сидеть, пока не заживет.
— Ладно. Завтра вечером приду.
Опять погрузился в чтение. К середине ночи одолел роман в письмах и принялся за стихи. Особенно понравилось это стихотворение:
Вот уже и мне не нужно вёсен.
У истоков северных широт
Я влюбился в золотую осень
И в таежный оторви-народ.
Я влюбился! Ну и что ж за диво?
Если так она уж хороша…
Впрочем, не лицом. Но как красива
Северная русская душа!
К нам пришла, пронизанная светом,
Будто доктор к тяжелобольным.
И пахнула в душу бабьим летом,
Запоздалым, но еще хмельным.
Пробудила песней журавлиной
Память о далекой стороне,
Где я бредил девушкой невинной,
Что давно забыла обо мне;
Где я жил, творил, мечтал, влюблялся,
Как дитя, купаясь в синеве,
Где любовь ушла, а я остался
Чужестранцем на родной земле;
Где луна и та иначе светит,
Обливаясь сонным серебром,
Где меня уже никто не встретит
На дороге, что вела в мой дом.
Да и тот ли он еще остался,
Притулившись к стайке тополей?
Может, он мне просто показался
В отдаленном крике журавлей?
Может, я напрасно ждал от вёсен
Щедрой, нерастраченной любви?
Чтоб уж навсегда влюбиться в осень,
В царство увядающей листвы.
Да, они кричат… Кричат об этом…
Будто стонут над судьбой моей.
Тихо веют в душу бабьим летом
В запоздалом крике журавлей.
Вот уже и мне не нужно вёсен…
У истоков северных широт
Облака на юг уносят осень,
Превращая душу в мутный лед.
Я забрался с головой под одеяло и долго не мог заснуть. Передо мной стоял образ автора, двадцать лет отбарабанившего в тюрьмах и лагерях и сохранившего поэтическую душу. Господи, один уголовник бьет ножом, другой дарит нежную поэзию. И как у меня с автором много схожего! Его не понимали в зонах, меня — на свободе, он для всех только преступник, я — дурак, в жизни он ничего не умеет — только писать стихи, я — собирать бутылки. И женщину мы познали слишком поздно.