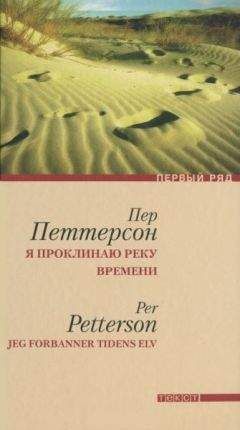Но что-то важное изменилось. Время разделилось на до и после, я перешел границу, возможно, переплыл реку вроде Рио-Гранде и теперь оказался в Мехико, где все не так и немного пугающе, но переправа оставила следы на моем лице, и мама увидит это с первого взгляда — что мы теперь по разные стороны реки, — и маму ранит, что я по собственной воле оставил ее, и поэтому она больше не любит меня и не хочет терпеть рядом. Отойди от меня, скажет она, ты, идиот.
Я мог притвориться, что меня нет дома, что я отправился на утренний сеанс в кино или в магазин или вообще еще на работе, вышел в утреннюю смену, но она наверняка уточнила это заранее, к тому же я соскучился и поэтому открыл дверь.
— Привет, — сказал я.
— Привет, — сказала она, — вот и ты, — сказала она, потому что я заставил ее ждать слишком долго.
— Заходи, — сказал я и отступил на шаг. Она переступила порог. Она не была ни весела, ни раздражена, чуточку нетерпелива, с нередким у нее выражением лица давайпокончимужесэтойерундой. Мы прошли через небольшую прихожую на кухню. Здесь у меня был порядок, что уже неплохо, потому что во втором помещении, единственной комнате, я хранил все свои вещи, и они были в основном свалены кучей, должен признать.
— Сидишь без денег? — спросила она.
— Да нет, — сказал я, — не то чтобы.
— Ну и правильно, — сказала она и положила белый сверток на кухонный стол. Потом бросила быстрый взгляд на «Авессалом, Авессалом!», который по-прежнему лежал там же.
— Очень вязко написано, — сказала она.
— Согласен, — ответил я. — Но книга хорошая.
— Наверняка. Правда, должна признаться, хоть это и стыдно, что я ее не дочитала, — сказала она, и уж если начистоту, то и я был совершенно уверен, что тоже не продерусь до конца романа. Хотя правда и то, что мне нравилось его читать, пусть я так и не одолел его полностью. В этом и была странность — что это не играло никакой роли.
Мама тремя пальцами раскрыла бумажный кокон с одного конца и осторожно вытянула картонку с двумя наполеонами. Я уставился на них, я не знал, что сказать. Не знал, рад ли. Или мне неприятно.
— Из Бергенсенса? — сказал я, и она ответила:
— Вовсе нет. А кофе у тебя есть?
— Конечно.
— Тогда ставь воду, и к делу.
Я сделал, как она сказала. Казалось, я вообще ничего не смогу сделать, если она сначала не скомандует мне, что и как я должен делать. Итак, я поставил кипятиться воду и заметил, что мама разглядывает мои руки, не изменились ли, и они, конечно, выглядели уже иначе, они были красные, заскорузлые, под ногти въелась полоска траура, все это она увидела, плюс у меня ныла спина от постоянных резких движений и непривычного перетаскивания тяжестей по многу часов кряду, два месяца подряд, круглые сутки, как мне казалось, но я не собирался заговаривать об этом, если только она сама не спросит, а она не спросила.
Я украдкой бросил взгляд на часы над дверью и увидел, что до вечерней смены три часа. Времени более чем достаточно, чтобы попить сейчас кофе с пирожным, а потом ехать на работу, две остановки по восточной линии метро, в Экерн, где отец проработал много-много лет, с моего раннего детства, а теперь ушел, потому что ему стала не по силам целая смена в грохоте, шуме и гаме, сутками, неделями, и каждую неделю все снова здорово, его организм перестал выдерживать хронический сбой своих биологических часов, отец то чашку на пол уронит, то тарелку, и живот болел, и сорок километров на лыжах, которые он пробегал каждое воскресенье всю свою взрослую жизнь, вдруг оказались непомерны, раз за разом он не мог их одолеть.
— А тебе разве не надо на работу? — спросил я.
— Куда? На «Фрейю»?
— Ну да. Куда же еще?
— Я больше на «Фрейе» не работаю.
— Я не знал.
— Еще бы, откуда ты мог узнать, — ответила она.
Я вставил в колбу с коричневым пластмассовым держателем бумажный фильтр, положил три ложки кофе, залил их кипятком и стоя ждал, пока кофе будет готов, глядя в окно на Финнмарк-гате и на почти голые деревья на горке, прозванной Ула Нарр[6], на рамы, которые я покрасил в светло-красный цвет, зная, что мне придется перекрашивать их в белый, если я соберусь отсюда переехать, а я наверно соберусь. Я перелил готовый кофе в чайник-термос столь же откровенно оранжевого цвета, как рамы — красного, и собирался наконец сесть, но мама сказала: «Чашки и блюдца», — и я, не коснувшись еще сиденья, снова выпрямился и пошел к стенному шкафчику за чашками и блюдцами. Потом нашел в верхнем ящике жарочную лопатку, которой я раскладывал пирожные в те редкие разы, когда у меня в доме появлялись пирожные, и положил ее рядом с наполеонами, а сам сел, сейчас ее вроде бы все устраивало. Она взяла лопатку, аккуратно переложила пирожные на блюдца, а потом все-таки встала и принесла из верхнего ящика две вилки.
— Ну вот, — сказала она, — давай-ка попробуем, а о том не будем больше говорить.
Не будем больше говорить. А мы еще не начинали говорить. Она отмотала все к моменту до того, как это случилось, и к пирожным тоже было не придраться, наполеоны превосходного качества, я давно не пробовал ничего вкуснее, а мне можно верить, тут вы имеете дело с экспертом, и на улице уже настоящая осень, за окном ветер гонит по мостовой клубы пыли и листья каштанов, кленов и лип, и асфальт кажется тверже, чем летом, он похож на застывшую корку, на которой можно поскользнуться и удариться до бесчувствия. Но в кухне тепло от батареи центрального отопления поднимается по ногам и животу, батарею я тоже покрасил красным. И к тому же слишком поздно. До меня вдруг дошло, что теперь уже поздно. Надо ей было прийти раньше, или мне надо было раньше поехать в Вейтвет, в дом с дурацкими картонными стенами, по ним ударь — и не просто будет дыра, но нога окажется у соседей, и я понял, что и она думает о том же, что поздно, и знает, что я это тоже знаю, но считает, что пока мы будем просто жевать пирожные и обо всем помалкивать, то сумеем сохранить наше знание под спудом. К тому же она пришла не прошения просить, а потому что это она меня родила. Я — ее сын. Вот в чем дело. Она пришла сюда как мать. И все равно — слишком поздно, что-то сломалось, тетива натянулась слишком туго и начала рваться с треском, который легко было услышать в кирпичных стенах. И я знал, что она слышит его так же ясно как и я.
Но мячик был на моей стороне, и надо было что-то делать. И чтобы немного разрядить атмосферу на красной кухне, я сказал в шутку:
— Так, значит, начальник цеха дал тебя пенделя? — спросил я с улыбкой, не предполагая, что подобное могло случиться.
— Нет, — сказала она. — Пендель дала ему я.
— Ты его ударила?
— Да. Пнула по ноге. Со всей силы. И ушла с фабрики.
— Но ты же не можешь уйти с работы таким манером? Есть же правила. Ты проработала там десять лет, а потеряешь все привилегии.
— Насрать мне на них, прости матери такое слово.
Мне не составило труда простить ей это слово, но я знал, что ничего близко на это похожего никогда не сделал бы мой отец, и я сам тоже, пусть я и послал все к черту и ушел из школы, где многому из того, чему меня учили, я всегда мечтал научиться, ушел, чтобы стать простым рабочим, как она и как отец, но у них не было другого выбора.
— И что ты теперь делаешь? Я имею в виду — ты нашла другую работу?
— Да, я горничная в «Парк-Отеле», — сказала она жестко и посмотрела мне прямо в глаза упрямо, с вызовом, как будто я был тем человек, кто мог высказаться с пренебрежением о ее работе, но я даже не знал, что горничная делает, и так и сказал, а она ответила:
— Я должна пылесосить комнаты, застилать кровати и драить толчок, — а я, ни разу не живший в гостинице, понял, что в «Парк-Отеле» она делает то самое, что всегда делала в квартире в Вейтвете и всегда ненавидела, и сказал ей об этом:
— Мама, но ведь ты всегда эту работу ненавидела, — а она ответила:
— Это правда, но сейчас я ничего против нее не имею. Теперь мне за нее платят, а это меняет дело, ты не считаешь? — Тут я был, конечно, согласен с ней, что это совсем другое дело.
И так мы с ней сидели, она и я, друг напротив друга в кухне с красными рамами, где-то между Музеем Мунка и площадью Карла Бернера, ели пирожные наполеон и смотрели в окно на Финнмарк-гате и одинокую горку Ула Нарр, и в комнате было тихо, мы не разговаривали, и мы не смотрели друг на друга, и я стал вспоминать все фильмы, которые мы с ней смотрели вместе, черно-белые по телевизору, а еще в разных кино: «Синсен», «Грурюд», «Ринген», он совсем недалеко от моей квартиры, на той же улице, и я вспомнил вечер десять лет назад, когда мы специально поехали с ней вдвоем, только она и я, в «Колизей» на Майорстюен в центре, чтобы посмотреть «Гран-При» с Ивом Монтаном и Джеймсом Гарнером в главных ролях, они играли гонщиков. По такому случаю мы принарядились, она надела голубое платье с желтыми цветами, а я серый пиджак-битловку без воротника, но с обшитым узкой черной тесьмой краем, и все начало фильма я был фанатом Ива Монтана. Он жестко и решительно держал руль, но что-то было у него в глазах, грусть, что ли, которой не было у Гарнера. Do you ever get tired? Of the driving, — спросил Ив Монтан. No, — ответил Джеймс Гарнер. I sometimes get tired, — сказал Ив Монтан, но, возможно, его грусть была просто его французскостью, и маме легко было понять, почему мне нравится Монтан.