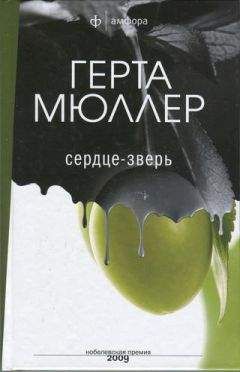Из комнатенки-коробчонки студенческого общежития я выселилась последней. Когда я пришла с реки, кровати девушек были догола раздеты. Их чемоданы исчезли, в шкафу висели только мои платья. Громкоговоритель помалкивал. Я стала снимать постельное белье. Наволочка без подушки — мешок для головы. Свою коробочку с сажей для ресниц я сунула в карман пальто. Пододеяльник без одеяла — мешок для трупа. Я стала всё сворачивать.
Сдернув с кровати одеяло, я увидела на простыне, прямо посередке, свиное ухо. Прощальный привет от девушек. Я встряхнула простыню, но ухо никуда не делось, оно было пришито, словно пуговица. На голубоватом хряще виднелись темные стежки, черные нитки. Но я была не в состоянии по-настоящему испугаться. Гораздо больший ужас, чем свиное ухо, внушал мне платяной шкаф. Разом сдернув с вешалок все платья, я бросила их в чемодан.
Тени для век, карандаш для бровей, помада и пудра уже лежали в чемодане.
Я не могла разобраться, чем же были для меня эти четыре года. Частью меня самой? Или они остались одежкой, платьем? А последний год как будто так и висел в шкафу. Весь последний год я каждое утро красилась. Размалевывала лицо тем старательней, чем больше чувствовала, что не хочу жить.
Я сложила простыню, пришитое свиное ухо так и осталось там, внутри.
В конце коридора высилась гора постельного белья. Рядом — женщина в голубом рабочем халате. Она пересчитывала наволочки. Когда я положила перед ней свое белье, она перестала считать, карандашом почесала лоб. Я назвалась. Она вытащила из кармана список, нашла там меня и поставила на мне жирный крест. И сказала: «Ты предпоследняя». — «Последняя, — поправила я, — предпоследняя умерла».
В этот день Лола в своих тонких колготках-паутинках могла бы уехать на поезде. И на другой день парень, по заснеженному полю гнавший домой овец, удивился бы: как это в такую холодину сестра сошла с поезда да с голыми ногами?
Кажется, я еще подождала чего-то, постояла перед пустым шкафом, вернувшись в коробчонку за своим чемоданом. Но сначала я открыла окно. Небо в облаках походило на распаханное поле с белыми пятнами снега. Зимнее солнце — зубастое. Я смотрела на свое лицо на оконном стекле и ждала, что солнце, раз уж там, на небе, теперь вдоволь снега и земли, вышвырнет этот город из пределов своего света.
Уже выйдя с чемоданом на улицу, я подумала, не вернуться ли. Я засомневалась, не забыла ли закрыть дверцу шкафа. Окно осталось открытым. Шкаф, кажется, был закрыт.
Я добралась до вокзала, села в поезд, который прежде привозил мне мамины письма. Через четыре часа я была дома. Часы с маятником стояли, и будильник стоял. Мама принарядилась, надела свое лучшее платье, но, может быть, мне это только показалось. Я ведь давно с ней не виделась. Она уже протянула руку, чтобы пощупать мои колготки-паутинки. Но не пощупала.
— Руки-то у меня шершавые, — сказала она. — Так ты, значит, теперь переводчица.
На запястье у мамы я увидела отцовские часы. Они тоже стояли.
После смерти отца все часы в доме заводила мама и делала это без чувства, без толка. Пружины во всех часах полопались.
— Вот, завожу, — сказала мама, — и вроде чувствую, пора бы остановиться, а не останавливаюсь.
Дедушка расставил на столе шахматные фигуры.
— Королев-то в уме держу, — сказал он, — а как иначе?
— Говорила я тебе, надо новых вырезать, — сказала мама. — Дерева, что ли, мало вокруг.
Дедушка сказал:
— А не хочу.
Бабушка-певунья обошла вокруг моего чемодана. Посмотрела мне в глаза и спросила:
— Это кто же приехал?
Мама ей:
— Ты же видишь кто.
Тогда бабушка-певунья спросила:
— Муж-то твой где?
Я сказала:
— Мужа у меня нет.
Бабушка-певунья спросила:
— А шляпу он носит?
Эдгар уехал далеко, в замызганный промышленный город. В том городе все изготавливали жестяных баранов, называлось это металлургией.
Я съездила к Эдгару в конце лета. Увидела толстые заводские трубы, рыжие столбы дыма, красные лозунги. Кабак с мутным пойлом — настоянной на шелковице водкой — и пьяных, которые нога за ногу плелись домой, в серый жилой район. А там по траве бродили, еле переставляя ноги, старики. Совсем маленькие дети, все в каком-то рванье, собирали и ели семечки мальв на обочине дороги. До ветвей шелковиц им было еще не дотянуться. Старики говорят: семена мальвы — это Божий хлебушко, будешь есть — ума прибавится. Тощие собаки и кошки с глубоко сосредоточенным видом подстерегали букашек и охотились на мышей.
— В июле, когда солнце палит вовсю, эти собаки и кошки спят, развалившись в тени под шелковицами, — сказал Эдгар. — Солнце так припекает им шкурки, что не остается сил на ловлю добычи, ну и голодают они. А свиньи находят в сухой траве ягоды шелковицы, перебродившие от жары. Свиньи наедятся и потом валяются на земле пьяные, совсем как люди.
В начале зимы свиней режут прямо в жилых кварталах, в проулках между домами. Если снега зимой мало выпадет, пятна крови остаются на сухой траве до самой весны, рассказал Эдгар.
Эдгар повел меня к школе-развалюхе. Солнце то светило, то пряталось, на пригретой солнцем земле сидели мухи. Мелкие, но не тускло-серые, как те, что вывелись слишком поздно. Эти мухи были блестящие, зеленые и громко жужжали, садясь мне на волосы. С жужжащей мухой в волосах я проходила несколько шагов, потом она опять принималась кружить где-то в воздухе над моей головой.
— Летом они сидят на спящем зверье, — сказал Эдгар, — то поднимаются, то опускаются вместе с дышащим боком.
В этом городе Эдгар получил место учителя. Четыреста учеников, младшим шесть лет, старшим десять, рассказал Эдгар. Они едят шелковицу, от нее якобы голос становится сильнее, в самый раз чтобы горланить песни о партии. Едят и Божий хлебушко, ума набираются, чтобы хватило на таблицу умножения. Еще они играют в футбол, дабы укреплять мускулатуру ног, и занимаются чистописанием, дабы развивались пальцы. Из внутренних болезней у них бывает понос, из наружных — чесотка и вшивость.
Запряженные лошадьми повозки обгоняли на улицах автобусы. Колеса повозок гремели, копыта лошадей стучали глухо. Здесь лошади не носили туфли на каблуках, зато над глазами у них болтались кисточки из шерстяных ниток, зеленые и красные. Такие же кисточки я заметила на кнутах. Эдгар объяснил: молодую лошадь страшно избивают, и она помнит эти кисти на кнуте. Потом такие же подвешивают у нее перед глазами. Лошадь в страхе бежит что есть мочи.
— В автобусах, — сказал Эдгар, — люди сидят понурые, посмотришь — вроде спят. Первые дни я все ломал себе голову, как это никто из них не проспит свою остановку. Но когда сам едешь с ними в автобусе, тоже сидишь опустив голову. Пол там прохудился. Сквозь дыры видно дорогу.
Я смотрела на Эдгара и видела на его лице отражение этого города — прямо посередке, в глазах, и у скул и возле губ. Волосы Эдгара, давно не стриженные, отросли так, что лицо казалось какой-то проплешиной и словно пряталось от света. На висках просвечивали жилки, глаза моргали без всякой причины, веки опускались — точно рыбешка уходила в глубину. Эти глаза убегали в сторону, стоило лишь перехватить их взгляд.
Эдгар делил жилье с учителем физкультуры: две комнаты, общая кухня и ванная. За окнами — шелковицы и высоченный репейник.
— Из сточного отверстия ванны каждый день вылезает крыса, — сказал Эдгар. — Физрук который год с ней уживается и даже кладет для нее в ванну кусочки сала. Крысу зовут Эмилия. Ест она не только сало, но еще и шелковицу и мягкие зеленые репьи.
Лолину родимую сторонку — ее увидела я на лице Эдгара. Мне надо было как-то избавиться от страха за Эдгара. Страх твердил мне, что здесь, в этом месте, где теперь живет Эдгар, никто не выдержит три года. Но Эдгар был обязан провести здесь три года. Сюда его направило государство. И я ни слова не сказала об этом месте. Однако поздним вечером, когда мы смотрели из окна на месяц, сам Эдгар сказал:
— Здесь всюду, куда ни посмотришь, Лолина тетрадь. Громадная, во все небо.
Шкаф в комнате Эдгара стоял пустой. Одежда так и лежала в чемодане, словно Эдгар в любую минуту мог уехать из этого места и не хотел терять время на сборы.
— Я тут не устраиваюсь, — сказал он.
Я заметила на крышке чемодана два волоса, положенные крест-накрест. Эдгар пояснил:
— Физрук шарит в моей комнате.
По дороге к школе-развалюхе я хотела сорвать несколько стеблей репейника — в комнате Эдгара я заметила пустую вазу. Репейник припозднился и был хорош со своими молодыми головками. Я надломила стебель, стала отрывать, ничего не вышло, взялась за другой — та же история. Так и повисли они, надломленные, на обочине. Волокна в стеблях были жесткие, точно проволока. Колючие старые репьи, совсем не такие, как те, что я пыталась сорвать, прицепились к моему плащу.