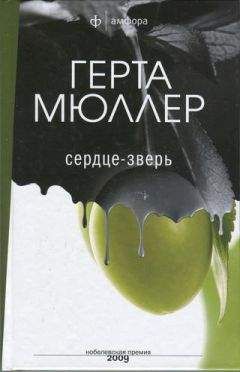— Мальчишки прилаживают репьи себе на плечи, получаются погоны, — сказал Эдгар. — Все они хотят стать полицейскими или военными, офицерами. А эти вот дымовые трубы засосут их на завод. Разве что двое или трое, самые неподатливые, уже сейчас вцепились в свою жизнь мертвой хваткой, они цепкие, точно репьи на твоем плаще. Вот так же вцепятся они в уходящий поезд и уедут отсюда, а когда станут на всё готовыми охранниками, будут болтаться на обочине где-нибудь в этой стране.
Георга на три года направили работать учителем в промышленный город, где все занимались изготовлением деревянных арбузов. Это называлось деревообрабатывающей промышленностью.
Эдгар уже съездил к Георгу. Тот город стоял посреди леса. Туда не ходили ни поезда, ни автобусы. Только грузовики с молчунами водителями, у которых не хватает пальцев на руках, рассказал Эдгар. Грузовики уходят из города порожняком, а назад везут бревна.
Рабочие воруют отходы производства и делают из них паркетные плашки, рассказал Эдгару Георг. Тех, кто не ворует, все остальные на фабрике держат за придурков. Наверное, поэтому никто не может перестать воровать и укладывать в своем доме паркет, даже когда во всей квартире паркетные полы. Крадут и кладут. Выкладывают паркетными плашками стены до самого потолка.
В центре города визжат две лесопилки. По всем улицам разносится стук топоров в лесу. А время от времени раздается гул — где-то тяжело валится на землю большое дерево.
— У всех мужчин, каких я видел на улице, не хватало пальцев на руках, — сказал Эдгар, — даже у детей.
Когда я получила первое письмо от Георга, со дня отправки, судя по штемпелю, прошло уже две недели. Двухнедельной давности было и письмо от Эдгара, которое пришло тремя днями раньше.
Письмо Георга я вскрыла так же медленно, как тремя днями раньше письмо Эдгара. Внутри сложенного листка лежал рыжий волос. Три дня тому назад в письме Эдгара я нашла черный волос. После моего имени стоял восклицательный знак. В горле у меня пересохло, я судорожно сглатывала, думая — только бы не прочитать на этом листке о простуде, ножницах для ногтей, о ботинках. Я все силилась проглотить комок в горле. Но что толку. Слова эти появились. И когда я читала письмо Эдгара, три дня тому назад, эти слова тоже появились.
«Волосы и брови у всех тут покрыты тонкой древесной пылью», — писал Георг.
Пытаться выразить что-то словами все равно как траву втаптывать в землю, подумала я. И вспомнила последнюю прогулку с Эдгаром, Куртом и Георгом вдоль реки. О капельках слюны Георга, попавших мне на щеку, о его пальцах под моим подбородком. И снова услышала свои тогдашние слова: «Деревянный ты какой-то, Георг».
Не я эти слова выдумала. И дерево тут совершенно ни при чем было. Тогда — ни при чем. Я часто слышала эти слова, их говорили другие люди, когда кто-нибудь был с ними груб, как они считали. Но и не другие люди выдумали эти слова. Когда им кто-нибудь грубил, эти слова приходили им на ум потому, что они тоже часто их слышали из уст других людей, тех, кому грубил еще кто-нибудь. Если бы и впрямь тут речь шла о дереве, то стоило бы докопаться, выяснить, кто и когда их придумал и первым вот так употребил. Но эти слова подразумевали только грубость. А если грубости уже нет, то и слов тоже нет.
С тех пор прошло несколько месяцев, а эти слова никуда не делись. Но теперь мне уже казалось, что, может быть, я брякнула Георгу: «Вот станешь чуркой деревянной».
Георг писал: «Мои волосы тут никому не бросаются в глаза, потому что цвет у них и без древесной пыли светло-рыжий. Я бесцельно шатаюсь по городу. Впереди идет кто-нибудь, тоже без цели. Если нам по пути, наши шаги приноравливаются друг к другу. Тут все держатся на дистанции, шагах в четырех друг от друга, чтобы не мешать. Идет кто-нибудь впереди — следит, чтобы мои шаги не слишком приблизились. А я, идя позади, слежу, чтобы спина идущего впереди не слишком приблизилась ко мне.
Но уже два раза все получилось по-другому. Тот, что шел впереди меня, вдруг сунул руки в карманы. Остановился и вывернул оба кармана, вытряхнул оттуда опилки и пыль. Пока он выколачивал пыль из карманов, я его обогнал. И вскоре услышал его за собой, но он был не в четырех шагах от меня, а подальше. Потом его шаги раздались прямо за моей спиной. Он обогнал меня и припустил чуть ли не бегом. Как только в его карманах не стало опилок, у него появилась цель».
«Здешние старики срезают с деревьев молодые ветки, рубят на куски, в каждом обрубке высверливают желоб и отверстия. Один конец делают узкий и плоский — это мундштук. Из каждой ветки, какая попадет им в руки, они мастерят дудку-свистульку», — писал Георг.
«Свистульки бывают как детский пальчик, — уточнил Эдгар, — а бывают громадные, как долговязый человек».
Старики свистят и дудят на опушке леса и сводят с ума птиц. Птицы мечутся меж деревьев и не находят свои гнезда. Потом они вылетают из леса и тут воду в лужах принимают за облака. Камнем падают вниз и разбиваются насмерть.
«Есть только одна птица, чьей жизни это не грозит, — писал Георг, — называется жулан или девятисмертник. Его голосу неспособна подражать ни одна свистулька. Жулан сводит стариков с ума. Они рубят ветки облепихи и шипами в кровь раздирают себе руки. Они мастерят из облепихи свистульки маленькие, как палец ребенка, и большие, как целый ребенок, но от их свиста жулан-девятисмертник не сходит с ума».
Эдгар мне рассказал, что эта птица охотится, даже когда сыта. Старики, крадучись, шастают вокруг кустов облепихи и свистят в свои дудки. Девятисмертник над их головами залетает в заросли и садится на ветку. На свист ноль внимания. Спокойно накалывает свою добычу на шипы — делает запасы на завтра, на случай неудачной охоты.
«Вот таким и надо быть, — писал Георг. — Я вот — такой. Всего за неделю купил себе две пары ботинок».
В письме Эдгара, пришедшем тремя днями ранее, я прочитала: «На этой неделе я дважды терял свои башмаки».
Проходя мимо обувных магазинов, я думала об обысках. И шла очень быстро. Портниха однажды сказала: «Детская обувь, ну до чего же дорогущая». Но она имела в виду обувь, и только. Сообразив это, я рассмеялась. А она обиделась: «У тебя-то нет детей». — «Это я так просто, о своем подумала», — объяснила я.
Курт каждую неделю приезжал в город. Он получил место инженера на скотобойне. Бойня находилась на краю поселка, а поселок был недалеко от города.
— До города рукой подать, чего ради мне жить в поселке, — сказал Курт. — Автобусы ходят хуже не придумаешь. Утром, когда мне надо в поселок, на работу, автобус идет из поселка в город. А вечером, после работы, наоборот, автобус идет из города в поселок. Оно и понятно, не хотят они, чтобы на бойне работали люди, которые хоть каждый день могли бы ездить в город. Им нужны на бойне местные, деревенские, которые из своей деревухи носа не высовывают. А как поступит кто на бойню — мигом становится сообщником. Два-три дня — и новички привыкают молчать, как все там молчат, и пить теплую кровь.
В подчинении у Курта было двенадцать рабочих. Они прокладывали на бойне теплотрассу. Курт уже три недели простужен. Каждый его приезд я говорила: «Тебе надо лежать». Курт отвечал: «Работяги ходят такие же сопливые, как я, а не лежат дома. Если я не выйду на работу, они вообще ничего не сделают, зато всё сопрут».
Мы избегали слова «простуда», оно ведь было в письмах. За полчаса Курт выпил три чашки чая, я — только одну. Я глядела в свою чашку и думала: он пьет в три раза больше, чем я, и громко прихлебывает. Потом Курт сказал:
— Дети в школе, где учительствует Георг, и слышать не хотят о какой-то там фабрике, о паркете своих родителей, о дедульках и свистульках. Из деревяшек они мастерят себе пистолеты и ружья. Хотят стать полицейскими или военными, офицерами.
— Когда я утром иду на бойню, дети в поселке топают в школу, — сказал Курт. — Ни книг, ни тетрадей у них нет, только кусок мела. И все заборы они изрисовали сердцами. Куда ни глянешь — везде два сердца, вензелем этаким. Говяжьи и свиные, ну а какие еще! Эти дети уже сообщники. Когда папаши целуют их на сон грядущий, они чуют, что на бойне папаши напились кровушки. И деток тянет туда же.
Я написала Эдгару: «Уже неделя, как я простудилась и не нахожу свои ножницы для ногтей».
Георгу написала иначе: «Уже неделя, как я схватила простуду и затупились мои ножницы для ногтей».
Наверное, не следовало писать в одной и той же фразе о простуде и о ножницах; может быть, надо было упомянуть о ножницах и о простуде отдельно, в разных предложениях. Или сначала написать про ножницы, а уж потом о простуде. Но простуда и ножницы были ведь только сигналами, и они уже не складывались у меня в голове в какие-то фразы, после того как я полдня и весь вечер просидела, бормоча фразы, в которых фигурировали ножницы и простуда, пытаясь придумать, наконец, правильную.