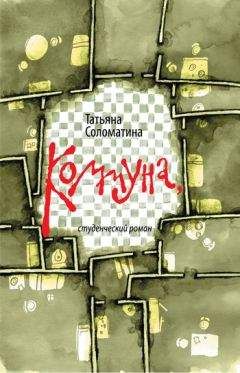— Тише, я сам такое же получил. Читай: «Товарищ Кныш! Ваша кадровая политика не соответствует современным требованиям. Срочно примите меры. Выговор с предупреждением».
— А вам от кого?
— Тс-с! — Кныш загадочно поднял указательный палец вверх и еще тише: — понимаешь, мы люди маленькие, а политика — дело темное. Ею управляют всего несколько человек. Их мало кто знает, и лучше не знать. А если хотим жить, надо исполнять. Иди.
— Постойте, — заупрямился Ваха, вновь глядя в письмо, — вы-то хоть «товарищ», а мы с матерью, судя по письму, «не достойные», «не приличные».
— Мастаев! Ты юн и глуп! Вместо того, чтобы благодарить судьбу, ты о какой-то чести задумался?.. Ну, можешь хоть сейчас переезжать. Куда? Хоть о матери своей несчастной подумай. А ты в пианистку влюбился. Да она ведь цаца, и не чеченка, и не русская. Так, что-то фашистско-жидовское, как и ее музыка. А ты — сын уборщицы! Сам крановщик. Факт! И кто его опровергнет?.. Но мы, рабочие, все равно победим! Иди, я тебя, когда надо, вызову.
По сути, Мастаев — беспризорник, всегда был волен в своих мыслях. А тут Кныш прочитал такую мораль, и мать, будто сговорились, то же самое: «Выкинь из головы эту музыкантшу, мы им не пара». А как он ее может выкинуть, если давно только этим и живет. Наверное, впервые в жизни он стал испытывать муки любви. Спасение лишь одно — футбол. И вот как-то после игры, уже в сумерках, он возвращался домой, как рядом визг резины. Он не только не бежал, но даже с неким вызовом пошел, как в футболе, один в атаку. И вряд ли два брата Якубовых, Дибиров Руслан и Бааев Альберт легко справились бы с ним, да из машины достали кусок арматуры.
Если бы не окрик прохожих, всякое могло случиться. А Ваха до чуланчика смог дойти.
— Давай отсюда уедем. Не наше это место, — плакала Баппа.
— Куда мы уедем? И где «наше» место? — с некой иронией пытался отвечать сын.
А ночью боли стали нестерпимыми, вызвали «скорую». Ваху госпитализировали.
Наутро в больнице появилась Виктория Оттовна Дибирова. Она была смущена, извинялась за сына, даже попыталась под подушку сунуть деньги. Этого Мастаевы не позволили. Завязался небольшой спор, и в это время в палате появился дед Нажа. Видно было, что он торопился, сильно взволнован. Ни с кем не здороваясь, он прямиком двинулся к внуку, по-старчески крепкой рукой схватил здоровую кисть Вахи:
— Кто эти ублюдки?
— Да так, случайность, — Ваха постарался отвести взгляд.
— Говори, — дернул руку больного старик.
— В том числе и мой сын, — неожиданно на русском твердо сказала Виктория Оттовна.
Словно эта женщина только появилась, Нажа уставился на нее цепким режущим взглядом, видно, напряг память, что-то припоминая, и уже более миролюбиво:
— Ты ведь дочь музыканта?
— Да, я дочь Отто Тамма, а вы у нас как-то гостили. Теперь я вспомнила вашего внука. Простите, что так получилось, — она замялась при последних словах.
— А как ваш отец, мой друг? — оживился дед.
— Папы и мамы уже нет.
— Да, хороший был человек, — Нажа выразил соболезнование. Виктория Оттовна поблагодарила, давая знать, что понимает по-чеченски, а дед с удовольствием долго рассказывал, как Тамм им помог, и как бы подводя итог: — Тамм — аристократ, и его внук не может быть недостойным. Гм, он, видать, поддался влиянию остальных. Как тех фамилия? — он уже обращался к Баппе. — Якубовы? Откуда они? Какого тейпа? Ничего, я сам все узнаю.
Через пару дней Нажа Мастаев сидел на скамейке во дворе «Образцового дома», всем своим видом выказывая благодушие, и словно знает всех, приветливо со всеми здоровался, и только то, как нервно постукивал самодельным тяжелым посохом, выдавало его нетерпение.
— О! — будто нет годов, бодро вскочил старик, увидев выходящего из подъезда. — Товарищ Якубов? Похож. Точь-в-точь как описали, и отец, говорят, твой был такой же упитанный, чернявый.
Якубов, важный, отглаженный, не зная, как реагировать на эти странные слова, тупо уставился на незнакомца, а старик почти по-свойски схватил его за локоть и ласково:
— Давай посидим. Как говорят русские, в ногах правды нет.
— Я тороплюсь на службу.
— Все мы служим Отечеству. Присядь, раз старший просит.
Якубов не юнец, он уже понял, что все неспроста. Огляделся по сторонам, следом — с ног до головы, как бы боясь испачкать костюм, он сел на краешек, а старик, опускаясь рядом:
— Не бойся, не запылишься, моя невестка убирает на совесть.
— Какая невестка? — Якубов насторожился.
— Баппа Мастаева, вон из того, как вы называете, чуланчика, — дед указал тростью. — Ее сына, моего внука, твои сыновья ублюдком обозвали, избили — теперь он в больнице.
— Обращайся в милицию, — вставая, сказал Якубов.
— Знаю я твою милицию, — старик думал силой около себя чиновника удержать, но Якубов, проработавший много лет грузчиком, довольно легко высвободился и уже хотел уйти, как Мастаев взорвался: — Твоя милиция тебя не трогала, когда ты тоннами со склада воровал.
— Что ты несешь! — Якубов вернулся. — Что ты хочешь сказать?! — перейдя на шепот, он подошел к Мастаеву вплотную.
— А то, — старик ткнул его пальцем, — что не мой внук, а ты, как и твой отец, стукачи.
— Что?!
— Что слышишь. Вы, пришлые нищие ублюдки, счастливые от прихода советской власти. От доносов твоего отца много людей пострадало в тридцатые годы, — торопливо говорил Мастаев, так что вставная челюсть чуть не выпадала. — И в депортации твой отец стал заниматься тем же — его свои же прибили.
— Старик, — будучи смуглым, Якубов как-то посерел и сжатые в злобе губы побледнели. — Времена не те, мое положение не то, а то я, — он угрожающе потряс толстым кулаком.
— Хе-хе, — дед пытается сохранить равновесие. — Времена всегда те, вот, смотри, — он приподнял трость, бросил ее, поймал, — не иначе. Это Бог так создал мир. И время неизменно течет — так заложил Бог. И всегда, во все времена есть добро и зло, и каждому Бог воздаст, и каждый получит по заслугам.
— Правильно, — как и старик, Якубов тоже пытается быть хладнокровным, — вот видишь, значит, твой внук получил по заслугам, и ты, если бы не мое благородное происхождение, лег бы на соседнюю кровать.
— Ха-ха, какое у тебя «происхождение»? Если бы у тебя был род и тейп, ты бы первым ко мне пришел, извинился, и конфликту конец, с молодыми бывает. Но раз ты так не поступил, то ты плебей и думаешь, что за внука некому заступиться.
— Ну, и как ты заступишься? Родственник уборщицы. Пошел вон, — Якубов хотел было с силой оттолкнуть в грудь старика.
А Нажа, ослабляя удар, отступил:
— Ах, так, — Мастаев выхватил из бокового кармана большой коробок. — Смотри, — он ловко открыл коробок — прямо в лицо Якубова.
— А-а! — завопил чиновник, рой взбешенных в коробке пчел жгучей маской облепил его шею и лицо. — Помогите, спасите, — Якубов хотел было сесть, потом бежать, споткнулся о бордюр и упал в кусты, еще более дразня насекомых.
А тут еще дед с посохом и кричит:
— Ах, моих пчел жалко, а то бил бы только по башке, только по башке.
Говорили, что, когда приехала «скорая», и без того толстый Якубов совсем опух. А когда прибыла милиция, Мастаев говорил:
— Не шумите, вы спугнете моих пчел. Видите, они к матке собираются, — в маленькой клетке большая пчела, а вокруг роились пчелы.
Подробнее остальных об этом рассказывал Кныш, который тоже навестил Ваху в больнице (надо было подписать какой-то документ), пересказывая комичный эпизод, он хохотал, а в конце добавил:
— Конечно, твой дед — молодец. Поделом. Ха-ха-ха, надо же догадаться — пчелы! А вот насчет времени — он не прав. Времена, действительно, наступили иные — социализм окончательно и бесповоротно победил, — довольный своими словами, он как-то торжественно глянул в окно и, словно не дождавшись причитающихся аплодисментов, уже грустнее добавил: — А вот в другом дед прав. Действительно, революцию делали неимущие, так сказать, пролетарии до мозга костей, которым нечего было терять, и они верно делу Ленина-Сталина служили. А вот их отпрыски, тот же Якубов, будто до корыта добрались — зажрались, они погубят дело Октября, и им не место в «Образцовом доме». Пока не поздно, всех надо пересажать.
Как бы в ожидании этого, сразу же после Кныша явились в палату прокурор и милиция, почти требовали, чтобы Ваха написал заявление на нападавших. Как сказал дед, Ваха никакого заявления не писал, а давление на пострадавшего усиливалось, хоть из больницы беги. И вновь явился Кныш:
— Пиши заявление. Ты об этом будешь жалеть.
С детства впитавший уличную свободу и какую-то внутреннюю независимость, в больничной палате Мастаев ощутил, что его вгоняют в неестественные рамки бытия, и он становится неким орудием в чьих-то руках. Благая жизнь «Образцового дома» диктует свои правила игры, которые он интуитивно принять не может. И он, хоть и молод, а уже понимает, что дело не в том, что на него напали, избили, а в том, чтобы он, что велят, исполнял.