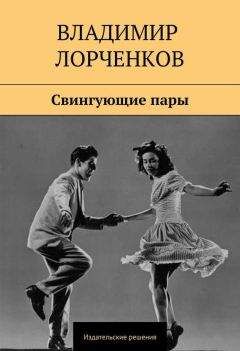— Ага, — согласился Рот.
Подержав в руках фотографию жены и ребенка Гольдстейна, Рот равнодушно похвалил их. Взглянув на фотографию своего сына, он почувствовал приятную теплоту и сразу вспомнил, как ребенок будил его по утрам в воскресные дни, Жена, бывало, сажала сына к нему на кровать, и тот, воркуя что-то, начинал шарить своими ручонками по животу и волосатой груди Рота. При воспоминании об этом он неожиданно ощутил острую радость и тут же подумал о том, что никогда не испытывал такой радости в то время, когда был дома, с сыном, и когда все это происходило. Наоборот, в то время эти проделки жены сердили и раздражали его, потому что не давали вдоволь выспаться. Рот с сожалением подумал теперь, сколько счастья упустил безвозвратно, а ведь был так близок к нему. Ему казалось, что он находится на пороге глубокого понимания самого себя, на пороге каких-то таинственных открытий, как будто обнаружил в однообразном и ровном течении своей жизни неведомые доселе бухточки и мосты.
— А жизнь все-таки забавная штука, — сказал он.
— Да, забавная, — тихо согласился Гольдстейн, глубоко вздыхая.
Рот почувствовал внезапный прилив теплоты к Гольдстейну.
«В нем есть что-то очень располагающее», — решил он. То, о чем думал сейчас Рот, можно было рассказать только мужчине. Женщины пусть себе занимаются детьми и разными мелочами.
— Есть вещи, о которых не поговоришь с женщиной, — сказал он.
— Почему? — горячо возразил Гольдстейн. — Я люблю обсуждать всякие вопросы со своей женой, она во многом неплохо разбирается. Мы живем с ней очень дружно. — Он замолчал, как бы подбирая слова для следующей фразы. — Когда-то, мальчишкой лет восемнадцати, я думал о женщинах совсем по-другому. Они меня интересовали только в половом отношении. Помню, как ходил к проституткам, потом было противно, а через неделю или около того снова хотелось к ним. — Он посмотрел на море, улыбнулся и продолжал: — А когда женился, стал смотреть на женщин совсем иначе, потому что узнал их лучше. Мальчишкой смотришь на все по-другому. Не знаю, как это сказать, да и не важно это… Женщины, — продолжал он очень серьезно, — иначе, чем мы, относятся к половой жизни. Переспать с мужчиной для них не так важно, как для нас переспать с женщиной…
Перед этим Рот хотел расспросить Гольдстейна о его жене, но не решался. Слова Гольдстейна успокоили его. Все муки и сомнения, которые он испытывал, слушая солдат, обсуждавших свои похождения и отношения с женщинами, теперь несколько притупились.
— Правильно, — охотно согласился Рот, — женщин это почти не интересует.
Гольдстейн, как казалось Роту, высказывал его, Рота, мысли и поэтому нравился ему все больше и больше. Он, по его мнению, был очень добрым, порядочным человеком, который никогда и никому не пожелает и не сделает плохого. Более того, Рот был уверен, что и сам он нравится Гольдстейну.
— Как хорошо сидеть здесь, — сказал он своим глубоким глухим голосом.
Освещаемые лунным светом, палатки казались серебряными, а берег у самой кромки воды — сверкающим. Рота переполняли мысли, которые трудно было передать словами. Гольдстейн казался ему очень близким другом, почти родным человеком. Рот вздохнул. Неужели еврею, чтобы его действительно понимали, нужно всегда искать друзей среди евреев?
Мысль об этом неожиданно огорчила его. Почему все это должно быть так, а не иначе? Он окончил колледж, более образован, чем большинство окружающих, но что это дает ему? Единственный человек, с которым, по его мнению, можно поговорить, был вот этот Гольдстейн, но он рассуждал совсем как старый бородатый еврей.
Несколько минут они сидели молча. Луна скрылась за облаком, и берег сразу стал очень темным, мрачным, молчаливым. Ночную тишину нарушали лишь приглушенные голоса и смех в других палатках. Рот подумал, что через несколько минут ему придется идти в свою палатку. Он со страхом вспомнил о том, что ночью его разбудят для заступления в караул. Из темноты вынырнула фигура приближавшегося к ним солдата.
— Это, кажется, дружище Вайман, — сказал Гольдстейн. — Хороший парень.
— Он что, как и мы, назначен в разведывательный взвод? — спросил Рот.
— Ага, — кивнул Гольдстейн. — Когда мы узнали, что оба назначены в один и тот же взвод, решили спать в одной палатке, если нам разрешат.
Рот кисло улыбнулся. Подошедший Вайман нагнулся, намереваясь войти в палатку, и Рот отодвинулся, чтобы пропустить его.
— Кажется, я видел тебя, когда нас собирали всех вместе, — сказал Рот, не ожидая, когда Гольдстейн познакомит их друг с другом.
— О, конечно, и я помню тебя! — весело отозвался Вайман.
Это был высокий стройный юноша со светлыми волосами и скуластым лицом. Он уселся на одно из одеял и зевнул.
— Я не думал, что разговор будет таким долгим, — сказал он, как бы извиняясь перед Гольдстейном.
— Ничего, ничего, — отозвался Гольдстейн. — Мне пришла в голову идея закрепить палатку, и теперь, по-моему, ее уж никак не свалить.
Вайман осмотрел палатку и заметил новые колышки.
— О, это здорово! — сказал он радостно. — Ты уж извини меня, что я не мог тебе здесь помочь, Джо.
— Пустяки, — ответил Гольдстейн.
Рот почувствовал себя лишним. Он встал.
— Ну я, пожалуй, пойду, — сказал он, почесывая свое худое предплечье.
— Посиди еще, — предложил ему Гольдстейн.
— Нет, надо поспать перед караулом, — сказал Рот и направился к своей палатке.
В темноте идти по песку было трудно. Рот подумал о том, что Гольдстейн не так уж дружелюбен, как кажется. «Это просто поверхностная черта его характера», — решил он и глубоко вздохнул.
Под его ногами едва слышно шуршал песок.
— А я тебе говорю, что обмануть можно кого хочешь и как хочешь, если только как следует подумать, — сказал Полак, улыбаясь, выдвинув свою длинную челюсть вперед в сторону лежавшего рядом Стива Минетты. — Нет таких положений, из которых нельзя было бы найти выход.
Минетте было всего двадцать лет, но он уже успел облысеть, и лоб из-за этого казался необыкновенно высоким. Он отрастил жиденькие усики и аккуратно подстригал их. Однажды кто-то сказал, что он похож на Уильяма Пауэла, и с тех пор Минетта стал причесывать свои волосы так, чтобы усилить сходство с ним.
— Нет, я не согласен с тобой, — ответил он. — Есть такие хитрецы, которых никак не проведешь.
— Чепуха это! — возмутился Полак. Он повернулся под одеялом так, чтобы видеть Минетту. — Вот послушай-ка. Как-то раз я потрошил цыпленка для какой-то старухи. В мясной лавке… И вот я задумал оставить себе кусочек жира… Знаешь, у цыплят около живота всегда есть два таких кусочка жира… — Он прервал свой рассказ, как артист, желающий привлечь внимание аудитории.
Взглянув на неприятно улыбавшийся подвижный рот Полака, Минетта тоже улыбнулся.
— Ну и что? — спросил он.
— Ха, она, стерва, не сводила глаз с моих рук, как голодная собака. А когда я начал заворачивать цыпленка, она вдруг спрашивает: «А где второй кусочек жира?» Я посмотрел на нее очень удивленно и говорю: «Мадам, его брать не следует, он подпорченный. Он испортит вкус всего цыпленка». А она качает головой и говорит: «Ничего, ничего, мальчик, положите его мне». Ну что ж, делать было нечего — пришлось положить.
— Ну и что же, кого ж ты обманул? — удивился Минетта.
— Ха! Прежде чем положить кусочек в сверток, я незаметно надрезал желчный пузырь. Ты представляешь, какой вкус был у этого цыпленка?
Минетта пожал плечами. Лунный свет был достаточно ярким, чтобы видеть Полака. Из-за трех отсутствующих зубов с левой стороны саркастическая улыбка на его лице казалась очень забавной.
Полаку было, вероятно, не более двадцати одного года, но взгляд его жуликоватых глаз производил отталкивающее впечатление и настораживал, а когда он смеялся, кожа на лице морщилась, как у пожилого человека. Минетте было как-то не по себе от этого. Откровенно говоря, он опасался, что Полак умнее и хитрее его.
— Не трави! — остановил его Минетта. За кого Полак его принимает, чтоб рассказывать эти небылицы!
— Что, не веришь? Это чистейшая правда, честное слово! — обиделся Полак. Он не выговаривал букву «р», и такие слова, как «правда», «праздник», произносил: «павда», «паздник».
— Да, да, павда, — передразнил его Минетта.
— Веселишься, да? — спросил Полак.
— Не жалуюсь. Ты рассказываешь прямо как в комиксах. — Минетта зевнул. — Что ни говори, а в армии втирать очки еще никому не удавалось.
— А мне здесь неплохо и без втирания очков, — возразил Полак.
— Ничего хорошего ты здесь не видишь и не увидишь до самого увольнения, — убежденно сказал Минетта и звонко хлопнул ладонью по лбу. — Проклятые москиты! — воскликнул он. Пошарив рукой под подушкой, он нашел завернутую в полотенце грязную рубаху и достал из нее небольшой пузырек с противомоскитной жидкостью. — Ну что это за жизнь? — спросил он ворчливым тоном и начал раздраженно натирать жидкостью лицо и руки. Закончив, он оперся локтем на подушку и закурил сигарету, но тотчас же вспомнил, что курить ночью не разрешается. Некоторое время он раздумывал, погасить сигарету или нет, но потом решительно и громко сказал: — А, хрен с ними, с этими порядками! — Однако сигарету все же скрыл в ладони. Повернувшись к Полаку, Минетта продолжал: — Ты знаешь, мне надоело жить по-свински. — Он взбил свою подушку. — Спать на куче собственного грязного белья, не снимая провонявшую потом и черт знает чем еще одежду. Никто и нигде так не живет.