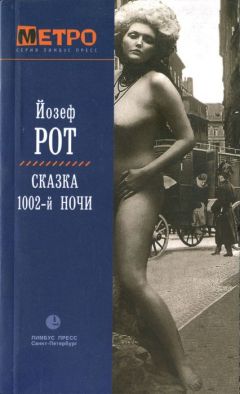Госпожа Мацнер без излишних проволочек простилась, проигнорировав при этом протянутую руку Лиссауэра. Поспешила на почту. Дело приняло чрезвычайно опасный оборот. Шляпную булавку она по-прежнему сжимала в руке. Огромная шляпа раскачивалась из стороны в сторону. Преодолев страх перед непредвиденными издержками, госпожа Мацнер отправила телеграмму Мицци Шинагль в Баден. «Срочно приезжай», — написала она на бланке, потом задумалась и помусолила карандаш. Мицци Шинагль просто-напросто не приедет — и задаром пропадет дорогая депеша. Мацнер собралась уже было послать простую почтовую открытку, как вдруг один из духов-обманщиков, они же ангелы-покровители, к которым она неизменно прислушивалась, подсказал ей правильное решение. «Тайтингер ждет тебя завтра» — вот какую телеграмму она послала.
И конечно же, рано утром Мицци Шинагль приехала. После долгого отсутствия она вновь вошла в заведение Мацнер. Все здесь стало ей, между тем, чужим. В воспоминаниях дом представлялся не только изысканным, но и ослепительным. Теперь же она привыкла к изысканным домам и ослепительным анфиладам. Дом Мацнер оказался убогим, даже обшарпанным и ветхим, со своими потускневшими зеркалами, салонной люстрой, в которой отсутствовало уже немало подвесок, в результате чего она напоминала дерево с частично облетевшей листвой, с диваном, красный плюш которого пестрел большими серыми дырами, проеденными молью, с отколовшимися кусками рамы из фальшивой бронзы на зеркале, с изношенной лиловой накидкой на исцарапанной крышке фортепьяно и с пыльными гардинами на окнах. Но что означали воспоминания по сравнению с волнующим ожиданием предстоящей встречи? Скоро она увидится с Тайтингером. В сумочке у нее лежала последняя фотография сына и его последний табель с отметками, правда, весьма удручающими. Поведение было «неудовлетворительным», а прилежание — «малоудовлетворительным». До сих пор сын ухитрялся остаться в каждом классе на второй год. Самой Мицци мальчик был безразличен. В последний раз она ездила к нему на Рождество. На вокзале он сначала потребовал какао, и она отправилась с ним в зал ожидания. С аппетитом выпив какао, он тут же раскрыл чемодан и взял лежащие сверху подарки. Потом закрыл чемодан и крикнул: «Рассчитаться!» Таким был ее сын. Но за последнюю ночь она придумала добрую дюжину историй, которые следовало рассказать Тайтингеру: Ксандль, дескать, хороший спортсмен, золотое сердце, одаренный певец. А однажды он даже спас утопающего ребенка. Правда, эта история была как раз невыдуманной. Ксандль и в самом деле выудил из воды ребенка — точно так же, как он привык ловить лягушек, рыб и ящериц.
Да, все это Мицци Шинагль хотела рассказать. И вот ей начало казаться, что ждет она почему-то долго. Да, госпожа Мацнер не изволили поторапливаться. Наконец она вышла, в полной «амуниции», а вовсе не в своем обычном утреннем виде, то бишь в халате. Вышла затянутая в корсет, напудренная, с уложенными волосами. Объятие двух женщин оказалось небрежным, а поцелуй — сухим и холодным.
— Тайтингер не приедет! — сразу же объявила Мацнер. — Его задержали но службе.
Мицци Шинагль, тяжело вздохнув, вновь опустилась на диван.
— Но… но… — залепетала она, на некоторое время замолкла и наконец подыскала жалкое утешение: — Но ведь он хотел меня видеть?
— Да, — ответила Мацнер. — Но пока его задержали по службе. Да ты можешь ему написать! У тебя же есть адрес.
Мицци оставалась на диване. Мацнер стояла перед ней грозная, похожая на жандарма.
— Мне нужно серьезно поговорить с тобой, — приступила она к делу. — Ты обманула меня, ты и твой Лиссауэр. Вы меня обокрали, вы меня ограбили. И все за мою доброту. Я ведь была тебе как мать. И называла тебя золотой девочкой. А вы растранжирили мои деньги. И ты сейчас немедленно отправишься со мной к нотариусу. И не вздумай убежать, не то плохо будет!
Мицци Шинагль была ни жива ни мертва. Казалось, ее мозг внезапно прекратил функционировать, да и сердце тоже, зато воспрял великий и безымянный страх. Но и страх иногда просветляет сознание — и Мицци Шинагль припомнила историю с кружевами, и все бумаги, которые подсовывал ей Лиссауэр и которые она подписывала не читая, и в памяти ее всплыла давно услышанная и давно забытая фраза, а звучала она так: «Если меня поймают, то тебя посадят!» И вот, значит, дело дошло до этого.
Она встала, она тронулась в путь. Уже как арестованная безвольно вышагивала она рядом с неумолимой Мацнер.
15
В следующие несколько недель Жозефина Мацнер почувствовала прилив свежих сил. Эти силы отнюдь не омолодили ее, а напротив, лишь обострили внешние признаки стремительно надвигающейся старости. Сама она этого, однако же, не замечала — и ощущала себя легкой, здоровой, довольной жизнью и помолодевшей. Ей казалось, будто она обязана решить важную задачу, а именно спасти свои деньги; или же, при другом повороте событий — что нравилось ей еще сильнее, хотя, в то же самое время, и огорчало, — отомстить за потерянные деньги. Грандиозный прилив ненависти переполнял ее, согревал, можно сказать, воспламенял. Ею двигал кипучий гнев. Ее дни, ее ночи изменились теперь, на смену привычному ритму жизни, размеренному и бессмысленно вялому, пришел иной. Теперь она спала крепким здоровым сном без каких бы то ни было сновидений и поднималась наутро полная сил и готовая к очередным свершениям. Она обнаружила в себе завидную способность понимать и толковать законы, разговаривать с адвокатами и разбираться в их речах. Адвокатов у нее было, для верности, двое: придворный и судебный адвокат доктор Эдон Зильберер и, вдобавок, доктор Голлитцер, стряпчий по особым делам, связанным с припрятыванием концов в воду, причем последнего она наняла не столько ради предстоящего процесса, сколько для приятного и вместе с тем поучительного времяпрепровождения. Потому что у придворного и судебного адвоката могло найтись для нее не больше получаса — и то через день, — тогда как Голлитцера можно было использовать хоть круглыми сутками. Строго говоря, она держала Голлитцера из-за недоверия к доктору Зильбереру.
Именно Голлитцер объяснял ей, как следует держать себя со знаменитыми адвокатами. Не кто иной, как Голлитцер, сообщил ей подробности приватной жизни судей, разложил пасьянс шансов, предоставляемых законом, и просветил насчет таящегося в законе коварства. В его сумрачной конторе на Вазагассе, 43, на 4-м этаже, она и сама начала превращаться в порядочную судейскую шельму. Испытывая при этом сладострастный восторг, как никогда в жизни.
Много запретных и даже наказуемых страстей изведала она в молодости и в зрелости, но подлинное сладострастие познала только теперь, на Вазагассе, — познала, обнаружив, что как раз те законы, перед которыми она всю жизнь испытывала инстинктивный трепет, могут оказаться послушны ей, как прирученные псы. Всю жизнь она прожила с ложным представлением о том, что женщины вроде нее стоят вне закона, что они обречены произволу и прихотям любого полицейского комиссара. В глубине ее души с давних пор дремала тоска по полностью легализированному существованию. Уже многие годы она надеялась, что когда-нибудь, как только у нее появятся деньги, она сможет пожить в благодетельной гражданской сени закона, где-нибудь подальше от своего заведения, которое следует выгодно продать при первом же удобном случае; пожить как Жозефина Мацнер — частное лицо без определенных занятий, пожить при деньгах и без малейшей опаски. И вдруг возникла именно что опасность остаться без денег. Без денег! В конце долгой жизни, проведенной по ту сторону закона. Какое ужасное состояние для стареющей женщины, возмечтавшей хоть теперь, в старости, ступить на защищенную законом территорию и обрести все блага и права гражданства! Да, но тем не менее: законы работают сейчас на нее, оба адвоката в этом не сомневаются. Госпожа Жозефина Мацнер трактовала теперь законы не как жертва, не как сторонняя наблюдательница, но как своего рода носительница и правопользовательница.
Кроме ловкого стряпчего Голлитцера, ее поддерживал также старый друг, агент тайной полиции Седлачек. О, она давно уже вела себя с ним не так, как раньше, — не как особа, находящаяся в известном смысле вне закона, но почти как равная. Долгие часы проводила она с Седлачеком в его бюро на Шоттенринг. А его агенты меж тем рыскали по городу, по всей империи. Крупное дело: поддельные брюссельские кружева, изготовленные в Вене, посланные оттуда в Триест, из Триеста — в Антверпен, а из Антверпена — обратно в Вену. Седлачек тоже постарел и устало притих. Его связанная с высшим светом служба ему разонравилась. Трое детей его — сплошь мальчишки — подрастали с чудовищной быстротой. С чудовищной быстротой старела жена. С чудовищной быстротой старел и он сам, он сам. Ему позарез требовалось «жирненькое дельце», чтобы продвинуться по службе и наконец-то получить возможность осесть где-нибудь в Граце, Инсбруке, Линце, Брюнне, Праге или Ольмюце начальником полицейского управления. Сам он был родом из Козловица — и хотя уже долгие годы жил в Вене и в силу своей профессии проник в высшие сферы, теперь, начав стареть, более всего хотел перебраться в Ольмюц — большой, но не слишком большой город, как раз то, что нужно. На пенсию ему хотелось выйти в чине обер-инспектора.