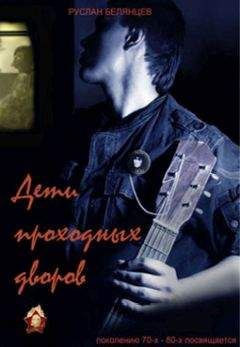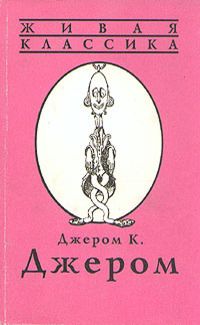Я не мог не рассмеяться. Саня надулся, но не отходил от меня.
— Эх, горе- бизнесмен! Жажда бабла понесла в чужую школу? Саня, ты так скоро все продашь. И учебники и портфель. Мало тебя коньяк поучил.
— Может в столицу за плакатами сгоняем? А? — нерешительно спросил Саня.
Я глянул на его фиолетовый фонарь под глазом и опять прыснул смехом от его неугомонности.
— Жадность тебя погубит!
— Иди ты в жопу. — наконец обиделся Саня. — Тебе что, посидел три часа в ванной, отглянцевал и свободен, а мне продавай! Я как раб у тебя. — ругался Саня, размахивая руками. — Знаешь, как трудно первого уламать купить? Жмутся все на бабки. Потом, конечно их набежит. как угорелых.
— За плакатами можно съездить. Один раз. Больше их не продашь. Некому особо. Ты же на базар не пойдешь их продавать.
— На базар? А это мысль!
Я опять смеюсь.
* * *
Лето врывается в город майками, шортами и мини-юбками. Павел обзванивает каждого из нас и просит придти в студию.
— Я завтра уезжаю в Киев. Пришло время готовиться к вступительным в институт. В столице у меня тетка, у нее подруга репетиторствует, будет меня подготавливать. Ключи от подвала дарю вам.
Мы стоим молча. Без Павла наша компания заметно потускнеет. Он был бесспорным лидером. Всегда заметно взрослее нас и внешне и внутренне. Его родители по специальности периодически работают в Африке. Павел рос с бабушкой и дедом. Они довольно старенькие, и ему приходилось большинство жизненных вопросов решать самостоятельно. Он возится с нами как старший брат с забавными малыми детьми. Но ему интересно быть в этой роли. Он гордится своим предводительством перед сверстниками. Гордится нашим подвалом, нашей группой. Вокруг него всегда вьются девчонки. Парни всего района знают его и уважают. Этот его авторитет тенью падает и на нас. И на районе нас никто никогда не трогает. Нас тоже знают, благодаря Павлу.
В августе он возвращается. Крепкий, мускулистый, улыбчивый. С титулом студента первого курса столичного ВУЗа.
Остаток лета мы играем в студии, ходим купаться в реке, катаемся на лодках. Это последний летний месяц, который мы проводим вместе. С нами постоянно несколько Пашиных друзей, девчонки с района и гитара. Мы засиживаемся до часа ночи в парке, освещенном только Луной. Вечера окутывают город быстрее, год идет к обороту. В этом еще очень теплом воздухе, уже чувствуется запах надвигающейся осени.
— Ну, ты хоть приезжай иногда. — говорим мы Павлу на перроне, ожидая вместе с его родителями электричку.
— Да, конечно, буду приезжать. Каждые выходные! — успокаивает нас Павел и смеется.
Вначале так и было, всю осень он появлялся каждые выходные, навещал родителей и нас. Потом стал появляться все реже. Он менялся. Становился взрослее. Я чувствовал, как он перерос этот подвальчик и нас, как новые друзья и подруги в столице занимают наше место. И это было нормально. Никто не обижался. Паша вырос, перевернул страницу детства, а мы еще нет.
С Кирой мы встречались летом всего один раз. Днем сидели в кафе и дули пепси-колу. Она все лето провела в разъездах с родителями, а потом по очереди у бабушек. Я не спрашивал ее о том парне, а она сама не заводила этот разговор. Но тема эта стояла в моем сознании как прозрачная, но твердая стена, и наши отношения уже не были такими близкими как прежде.
Солнце подкрасило ее волосы оттенком рыжего, открытое легкое платье показывало загорелую кожу. Я любовался ею. Сидя за столиком, она протянула руку и коснулась моей. Это прикосновение было сильнее всех остальных, которые будут у меня потом, в будущем. Я сжал ее ладонь, переплетая наши пальцы.
Юношеская любовь так и останется радужным пятном на всю жизнь. Время сотрет неприятные моменты, с возрастом они станут мелкими и смешными.
* * *
19 августа во дворах было оживленно. Кухонные разговоры о политике всезнающих обывателей поползли на улицу. Наши люди всегда поражали меня осведомленностью о том, как управлять экономикой, что сделать в промышленном секторе, как улучшить армию и когда Америке настанет конец. В этот день Штаты никого не интересовали. Все говорили о свержении "Меченого", товарища Горбачева. Седые старики, завсегдатаи шахмат нашего двора, с обидой и гневом ругали новоявленных демократов, вспоминали войну под знамёнами Сталина и показывали на ветеранские планки своих пиджаков. Мужики помоложе, из компании доминошных козлазабивателей активно доказывали гниль верхов, отставание в развитии и новые возможности. Едины они были в одном: и те и другие ругали Горбачева. Первые — за слабость, развал и перестройку, вторые просто ругали. Так длилось несколько дней. Напряженные высиживания перед телевизором выливались в дворовые дебаты. Всех объединяло одно — тихая радость самого факта краха существовавшей власти. Опьяняющее злорадство уступало место страху перед будущим.
Директор школы в этот год был очень напуган глобальными переменами в стране и нуждался в поддержке коллектива. Он, коммунист с 1967 года, в свои 50-т понимал, что новая власть выкинет его вскоре с кресла директора, в котором он просидел лет 20-ть, и поставит своего руководителя, способного повернуть сознание учеников на стезю новых идеологических придумок. Новой власти, как, впрочем, и любой иной, нужна была своя идеология, которая бы заставила народ безропотно принять новоиспеченных хозяев, отрекшись навсегда от верности кумачу. И верным залогом грядущего будущего, конечно, должны были стать юные и неокрепшие умы. Несмотря на это, нам так и не успели привить никакой новой идеологии. Мы оказались поколением без политических ценностей. В прошлом у нас сиял нивелированный Ленин и красный Октябрь, а в новом времени — неясные очертания национальной идеи и туманной демократии. Впрочем, нас мало заботила политика. У нас был свой подростковый мир. И места для политики в нем не было.
Ближе к концу лета я, наконец, открыл матери тайну своей "успеваемости" в школе. Количество трояков не сулило ничего хорошего. В этом году обещали очень суровый отбор для перевода в 10-й класс, и мама довольно напугано заглянула в табель. Чтобы упредить ситуацию, она спешно узнала адрес нашего историка и пошла к нему домой.
Историк был человеком в школе авторитетным, все за глаза звали его по отчеству Михалычем. За плечами у него висела служба в органах. В душе он был оппозиционером, носил пышную бороду лопатой, был с нами на короткой ноге, позволял себе употреблять на уроках молодежный сленг. Например, фавориток французского короля он называл не иначе как "тёлки Людовика", балы для знати — "дискотеками", Наполеона — "мелким пакостником", Кутузова — "одноглазым старым паханом". Помимо истории он учил нас еще и поведению в разных жизненных ситуациях, давал практические советы. И был любим всеми учениками.
Михалыч маму мою успокоил, сказал, что парень у нее, то есть я, неглупый и пойдет спокойно учиться дальше.
В двадцатых числах августа под директорской приемной стояла десятка три учеников с нашей параллели. Это были троечники. Те, кто еще не подал документы в училища, и надеялись остаться в школе. Им предстояло навязать себя на голову директора еще на два года. А директор, запуганный переменами в стране, желал избавиться от такого балласта, портящего ему показатели успеваемости. Большинство пришли с родителями. Первой от директора вышла моя заплаканная полненькая одноклассница со своей мамой. Второй вышла улыбающаяся ярко накрашенная девица с параллели и на вопрос "Ну как?", коротко и весело ответила: "Выгнали!".
Подошла моя очередь. Я зашел с матерью. В кабинете сидела небольшая комиссия из наших учителей с директором во главе. Одесную от него сидел Михалыч. Тот вальяжно и уверенно восседал на стуле, немного отодвинувшись от общего стола, и поглаживал рукой бороду.
Директор сухо заохал о моем бесперспективном положении. Он был довольно косноязычным. На уроках физики, которая была его предметом, методика состояла больше из демонстрации и писанины, чем из вербального изложения. К примеру, на уроке по теме воздействия световых частиц он ходил межу рядами с колбой в которой медленно крутился пропеллер. Обойдя все ряды, и молча ткнув колбу каждому к физиономии, он произнес единственную фразу "Шо?"
— Э-э, да, ну-у, тут не о чем даже говорить. — пропел он, каким-то блеющим голосом.
— Классный руководитель, что вы скажите? — он обратился к нашей молоденькой симпатичной классручке.
Она чуть замешкалась с ответом, и вместо нее вступился за меня Михалыч.
— Этого ученика я предлагаю оставить. Он, конечно, заигрался, нахватал трояков, но это способный парень. Я бы его даже к себе в класс взял.
Директор удивленно и не вполне довольно посмотрел в сторону Михалыча. На его лице возникла кислая умоляющая гримаса. На меня он не смотрел. Он старался не видеть тех, кого выставлял из школы. Ему было легче, когда ученик был лишь набором оценок в журнале, а не конкретной личностью. Так проще для совести.