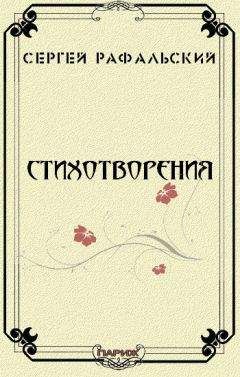Но, вот именно, ноши больше не было.
Дико озираясь вокруг, в обманном свете подымающейся еще далеко за горизонтом зари, различил горбатые спины камней среди темной шерсти травы, но ничего похожего на труп.
Держась за колючий куст, заглянул вниз с обрыва. В лицо ему пахнуло дурным дыханием разлагающихся нечистот, но его страшной ноши и здесь не было.
Внизу гниющая гора отбросов смутно светилась, как будто тем же противным желтым излучением.
Вот по ней пробежало одно темное пятно… Второе… Третье…
— Крысы! — застонал Иуда, корчась в смертельной муке. — Крысы!. — И он стал пятиться назад, пока не уперся спиной в ствол дерева и не задохнулся в спазме отчаяния…
Над ним, сквозь кряжистые, кольцами лукавого Змия гнущиеся ветки, сияли высокие, чистые, частые звезды…
— Ты! — сказал вдруг Иуда, глядя куда-то в бесконечность, между вечных звездных огней…
— Ты! — повторил он, не находя слов, трясясь всем телом и всхлипывая. — Зачем Ты меня растоптал, Ты…?
Его руки, размазав по лицу неуемные потоки слез, быстро распутали под плащом пояс и перебросили через ветку…
«Кто был ничем — тот станет всем»…
Звеня тишиной, вечер, как медленная река, плыл над зреющими нивами. Вдали, в золотистой прозрачности, за последними серосиними рубежами оливковых рощ, пологие горы, лиловея подпалинами теней и кустарников, казалось, подошли ближе и присели. То здесь, то там почти черные кипарисы, с нежной стройностью одетых в темное девственниц окружали разбросанные на равнине холмы поселков. Теплая пыль, поднятая сандалиями путников, среди двух стен колосьев долго, как засыпающая бабочка, уcаживалась на дорогу. В молитвенной торжественности полей и неба, словно в священном притворе, невольно понижались голоса идущих, и некоторое время они шагали молча. Но томившая сердца их тревога одолевала таинство вечера и в нервном разговоре они снова и снова обсуждали только что слышанное в городе: исчезновение тела Учителя, самоубийство Иуды, слухи о воскресении или его наглой подделке. Оба были давними последователями Казненного и теперь не знали, что и думать. В воскресенье они не верили: если Учитель воскрес, то где скрывается Он, когда среди самых близких и верных Его нет? Как мог Он совершенно нагой (погребальные покровы остались в гробу) искать приюта у чужих? И кто решился бы его приютить? И, наконец, стоило ли воскресать, чтобы, как самый презренный вор, прятаться неизвестно где? Перебирая всех наиболее стойких учеников, спутники не находили никого, кто бы способен был украсть тело. Вот разве Иуда… Но он повесился.
Между тем вечер подошел еще ближе к ночи. В быстро темнеющем небе распустилась трепетная почка первой звезды. На перекрестке — из-за стены спеющих колосьев, — вышел приятный на вид человек, приветливо поздоровался и пошел в том же направлении. Поневоле завязался разговор и, конечно, о последних событиях. Так как новый спутник с явным уважением говорил о Казненном, ученики, чтобы облегчить невыносимую тяжесть всего, что свалилось на них в последнее время — понемногу раскрыли ему свои горести и свои сомнения. Третий долго слушал в молчании как будто благожелательном.
— Вы говорите о воскресении, как о простом возвращении в прежнюю плоть, — наконец заговорил он, на ходу проводя рукой по склоненным на краю дороги колосьям, словно лаская или благословляя их. — Так воскрес тот друг, которого Учитель вызвал на третий день из тьмы могильной. Все знают, что он жив до сих пор, но никто не сомневается, что в свой час он снова станет на пороге смерти и уже некому будет позвать его обратно. Учитель же говорил вам о воскресении в жизнь вечную, когда воскресший проходит смерть, как врата побежденной крепости, которые уже не закрываются за ним… Этот земной мир и другие, ему подобные, пребывают в Духе, словно капля воды в большой воде. Воскресший в Духе тем самым живет во всех мирах одновременно. Он может из вещества вызвать свою земную плоть, и вот шаги его подымают дорожную пыль, и коснувшись его одежд, вы думаете: это настоящая шерсть и притом не от горных овец — та грубее и жестче. Воскресший в Духе может есть и пить, потому что тело его — есть его тело и во всем подобно вашему, но он может обходиться вовсе без пищи и питья, потому что живет и вне плоти. Он бывает одновременно и здесь, и за тысячу тысяч стадий отсюда, входит в дом сквозь запертые двери, а когда садится, — старое кресло скрипит от его тяжести. Он может снова оставить свою плоть и снова найти ее — так же, как вы берете одежду, которая покорно ждет вас там, где ее повесили. Однако трудно понять жизнь вечную еще не прошедшим через смерть и воскресение… Так же трудно, как Иуде догадаться, что Новое Царство сбывается в Старом, как будто никак не разрушая его. До тех дней Победы, о которых мечтал Иуда, должны еще пройти многие тысячелетия и окончательное Царство Славы не провозгласится на площадях под рев труб и клики воинов. В Древнем Завете человек был трепещущим рабом Вечного, в Новом — должен учиться ощущать себя Его сыном, и только в Завете Духа станет победителем самого себя и Мира и научится творить дела Отца: выйдет за пределы Земли, оживит мертвые планеты и сотворит существа по образу и подобию своему. Он перестанет думать о первородном грехе и в Вере Торжества встретится с Сущим…
Жадно слушая благожелательные и ласковые речи нового спутника, ученики в его сочувствии отдыхали от всех душевных невзгод и утешали свои горести. Из благодарности — проходя мимо придорожной таверны, они предложили ему зайти, вместе перекусить и отдохнуть.
Третий охотно согласился.
Их встретила хозяйка, дородная, не желающая стариться женщина, с недобрыми черными глазами и будто распухшими губами. Недовольно и недоуменно прикрикнула на собаку, которая вместо того, чтобы, по обыкновению, бешено облаивать гостя, ластилась, повизгивая, к его ногам — толстуха провела посетителей в большую, низкую, грязноватую комнату, всю пропитанную запахом перегорелого масла. Болтая всякий вздор и острыми — косыми — взглядами оценивая посетителей, она зажгла на столе светильник, отчего на закопченных стенах возникли и зашевелились три головастые тени, и ушла собирать ужин. Когда принесли вино и лепешки, — стали есть. Третий спутник придвинул к себе чашу и отпил из нее, потом переломил хлебец, благословил, ел сам и с озаряющей улыбкой предложил другим. Духовные очи двух открылись, и с радостным криком они вскочили, опрокидывая табуретки. Но над их Спутником в воздухе засияли цветные точки, словно пыль разбившейся радуги, потом сияния превратились в неизъяснимое звучание, и третья тень на стене, быстро бледнея, пропала. Ученики увидели, что в горнице их только двое.
Быстро расплатившись за несъеденный ужин с ничего не понимавшей, но на всякий случай сразу набавившей цену хозяйкой, они не пошли, они побежали обратно в город.
На этом торопливом пути растеряли очень много из того, что слышали, и когда попали в дом, в котором в унынии и тревоге собрались другие братья, могли только сказать, что видели Воскресшего и что наступил Завет Сына.
Последовавшие за Великим Крушением годы «бури и натиска» настолько изобильно рассказаны, что и сам Мартын Задека не разберет, кто — как среди победителей, так и среди побежденных — трезво врет, а кто вдохновенно сочиняет. Ибо не только актеры на первых ролях, но и многие статисты положили на героическую фреску и свои, слегка приукрашенные, штрихи. Не высказались только те, кто считая, что и первые, и вторые, и третьи одинаково под видом борьбы за «всеобщее счастье» или, наоборот — за «природное Неравенство» разряжали на ни в чем не повинные головы свою петушиную ярость и свой священный эгоизм. Таких голосов нет и быть не может, потому что их свидетельство одинаково против шерсти и «хранителям традиций» за рубежом, и «захватчикам» в Кремле.
Точно так же, если не до конца рассказана, то как-то стерлась в зарубежной памяти и та блестящая эпоха, когда эмиграция еще пахла пылью, порохом и кровью донских степей, а ее элита по любому звонку в полночь могла представить на смену «узурпаторам» и полный комплект Совета Министров, и необходимый кворум Законодательных Палат, и Генеральный Штаб, и корпус жандармов, и сыскное отделение, и Торговую Палату, и Священный Синод, и Правительствующий Сенат, не говоря уже о профессуре и представителях искусств, в особенности — литературы.
Отобразить все скорбное величие грандиозного поражения и весь неимоверный «восточный» базар последовавшей ругани, надежд, дискуссий, декламаций (со слезами и без оных), словоизлияний, пророчеств, попреков, доносов, интриг и взаимных обвинений в этой, осевшей на реках Вавилонских изгнания, бывшей Руси — так же трудно, как коллекционеру собрать все марки решительно всех стран мира. Именно поэтому профессиональные сборщики ограничивают себя одной страной или темой (портреты, пейзажи, животные, копии картин и т. п.) и на ней разворачивают весь свой пыл. Так и нижеподписавшийся из всей эпопеи Зарубежной Руси выделяет ее осень, но серую, мглистую, без горизонтов и без порывов, со старческими домами и кладбищами на каждом перекрестке.