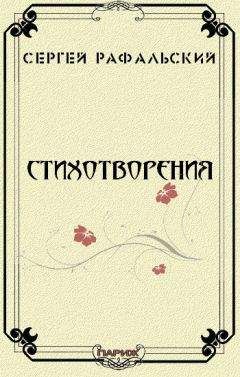После месяца безработицы почти счастливой стала казаться торопежка трудового быта, когда — давясь и обжигаясь, заглатываешь кофе, на ходу доедаешь бублик, через две ступеньки на третью свергаешься в метро — и втиснувшись в переполненный вагон, трясешься на другой конец гигантского города. А вокруг такие же трудовые страстотерпцы дожевывают, дозевьшают, дочитывают или, с угрюмым лицом и неподвижным взором, доковыривают какую-нибудь, со вчерашнего вечера не вытащенную душевную занозу.
А в мастерской уже все на месте — Александр Петрович обычно приходил с опозданием. Хозяйка — в зависимости от собеседника и настроения звалась то Лией, то Лидией (Харитоновной) — режет шелк для обводчиков и не преминет, конечно, язвительно спросить Александра Петровича, какую девушку он видел во сне. На что Александр Петрович каждый раз собирался, но так и не собрался ответить: «Ту же, которую еще сейчас досматривает ваш муж»…
Дело в том, что — по игре случая — обладавший одинаковым отчеством с женой (хотя соответственных предков звали одного — Хаим, другого — Шулым) Саул Харитонович на правах избранной натуры (он считал себя художником) просыпался очень поздно.
Миражный воздух безмерных пространств (от Тихого океана до Карпат), где весны курлыкают птичьими перелетами, уносящими грезы в таинственную Индию или знойный Египет, а зимы зарываются в непробудные сугробы, среди которых так сладко, возле теплой печки, слушать колыбельные песни метели — отравил в свое время и талантливого еврейского ребенка.
Еще в Аккермане — под кровлей отцовской бакалейки, в минуты вынужденного безделья за прилавком, Саул взлелеял пленительную мечту о независимой ленивой жизни — без покупателей, которых надо уверять в том, во что сам не веришь, без весов, незаметно поддерживаемых рукой, без регулярных взяток полиции, без традиционно антисемитского директора гимназии и без черты оседлости.
С годами созданный в мечте счастливый мир корректировался опытом, наполнялся деталями, обрастал бытом.
После того как зловещая процентная норма была преодолена сумасшедшей зубрежкой и нещадными отцовскими порками, а учитель рисования, убежденный охотник и пьяница, происходивший из Сибири и потому совершенно лишенный предубеждения против иудеев, — объявил Саулу Балагулыцику, ученику 3-го параллельного класса, что дух самого Айвазовского, по всей очевидности, почил именно на нем, — классическая барская квартира адвоката или врача в русском столичном городе — в утренних и вечерних мечтах Саула — стала вытесняться просторной мастерской с развешенными по стенам натюрмортами и пейзажами, преображавшими грязь родных кварталов в царственную гармонию красок.
Справившись с очередной зубрежкой, будущий великий художник порой настолько прочно погружался в разработку частностей будущего своего рая, что только после второго окрика матери или отцовского подзатыльника начинал жевать свой ужин, как всякий порядочный еврей, а не как пьяный гой, которому все равно, что положить в рот: грязную подошву или фаршированную щуку.
Русская прислуга Анка, с непомерным телом, не оскверненным ни модой, ни гигиеной, после нескольких сеансов на горбатом сундуке в чулане заставила Саула снять со стен своей будущей мастерской девственные натюрморты и пейзажи и заменить их смелыми портретами обнаженных русских женщин, великосветских красавиц — графинь и баронесс.
Сумасшедший семнадцатый год не мог, конечно, не взбудоражить и Саула. Он пережил ряд последовательных взрывов гражданских чувств и чуть было не поступил в красную гвардию, но вовремя опомнился, ибо — как и большинство в его окружении — единственным достойным делом Русской Революции считал уничтожение черты еврейской оседлости. Раз оно достигнуто — зачем же еще огород городить? Все дальнейшее явно переходило в опасные излишества.
Совершенно естественно поэтому, что, вместе с родным Аккерманом, Саул оказался в Румынии. Место русской столицы, прежде забронированной роковой чертой оседлости, занял Париж, тоже отгороженный частоколом виз и паспортов, но в конце концов вполне доступный. К сожалению, художников в Париже было слишком много, и «дух Айвазовского» годился разве только для спиритических сеансов.
Саул очень скоро убедился, что конкурентов у него гораздо больше, чем таланта, и — чтоб не отходить очень далеко от чистого искусства — избрал для изучения архитектуру.
В мансарде Латинского квартала, над очередными чертежами, отведавший уже многие блага столицы, но вдрызг голодный Саул, растлевая героическое еврейское упорство наплевательской истомой русской лени — окончательно сформировал свой жизненный идеал: счастливые Гавайские острова, где под ослепительным нагим солнцем живут девственные душой нагие люди, где стоит только протянуть руку, чтобы сорвать утоляющий голод душистый плод — вот для чего стоило жить.
Диплом инженера-архитектора дал — для начала — такой оклад, при котором острова Гавайи можно было увидеть только в кинематографе…
И еврейский коммерческий гений проснулся в Сауле…
Он преодолел отвращение к прилавку, к фальшивым весам и фальшивым словам, выбрал себе жену — хорошую еврейскую женщину — неутомимую в работе, бережливую, во всем покорную мужу, и ринулся на штурм заветной мечты, так сказать, с черного хода, утешаясь отчасти и тем, что все-таки продолжает служить искусству: декоративная мастерская — не селедочная лавка…
Прихоть моды создала шумный успех раскрашенным материям, и мастерская Балагульщика (по-французски «ателье Monsieur Balagoul») процветала.
Верная Лия (она же Лидия Харитоновна), подымаясь с рассветом, варила мужу кофе, убирала, стараясь не шуметь, квартиру и уходила готовить краски, резать материю (выгадывая у клиентов на метре — по сантиметру) и подгонять рабочих.
Саул вставал с постели, когда хотел, аккуратно брился, в шелковой пижаме пил кофе, клал несколько мазков на очередное неоконченное полотно, долго глядел на достигнутый эффект, щурился и мечтал и, наконец, тяжко и брезгливо вздохнув, повязывал всегда свежий галстук и направлялся в ателье. Уличный шум окончательно стирал его утреннюю лень, и в мастерскую бодро входил уверенный в себе коммерсант, проверял счета, звонил по телефону, делал выговор жене за расточительность, с язвительной деликатностью критиковал рабочих и, наконец, сняв пиджак и засучив рукава, воплощал на кальке посетившие его декоративные идеи, причем Лидия Харитоновна всегда восторженно ахала, а сотрудники — сами в большинстве из Монпарнасских неудачников — презрительно перемигивались.
После обеденного перерыва Саул Харитонович посещал клиентов, щеголяя подчеркнутой картавостью французской речи, — демонстрировал новые модели, принимал заказы и чеки.
Вечером, подводя итоги, придирками и попреками доводил жену до слез и все в той же пижаме заканчивал дневные труды на купленной по случаю софе перед собственной картиной, на которую неутомимая Лия, следуя строгим указаниям мужа, робко направляла свет специальной лампы.
Первоначальная цель — счастливые Гавайские острова — решительно заслонилась самодовлеющим спортом накопления. Неоконченная картина месяцами ждала очередного мазка, пестрая пижама, как труп мечты, покоилась в лакированном гробу туалетного шкафа, а Лия Харитоновна все чаще и чаще выслушивала подробнейшую и обоснованнейшую характеристику своей деловой бездарности. Знакомым, осведомлявшимся о новых работах, Саул Харитонович с твердой гордостью заявил: «Я не художник, я — коммерсант», причем очень обижался, если слова его принимались всерьез.
Война прервала эту блестящую карьеру.
Обладая русским чутьем и навыком, Саул Харитонович с семейством своевременно уехал подальше от центров событий, но все-таки ему пришлось пережить немало трудных минут, побывать в самых разнообразных, к счастью, не очень опасных, местах.
Вернувшись в освобожденный Париж, он вместе с маленьким сыном привез и, раньше у него начисто отсутствовавшую, тоску о самом настоящем, вполне своем собственном отечестве.
Если в свое время Саул Харитонович рекомендовался: «,Я художник», — а потом — «Я коммерсант», то теперь то и дело говорил: «,Я еврей» и русским сотрудникам с подъемом декламировал свои стихи о «святом Ерушалайми».
Пока дела шли хорошо — можно было надеяться, что Ерушалайм, так же как и неоконченная картина, останется навсегда, так сказать, на мольберте.
Но капиталистический мир пренебрег уроком русской революции. Застой, конкуренция и демпинг — итальянские печатные платки — стали серьезно утеснять коммерческие возможности Саула Харитоновича. «Святой Ерушалайм» все чаще и все настойчивее сиял перед его духовными очами и наконец увлек окончательно эту мятущуюся душу.