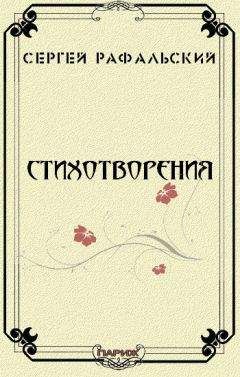Эта осень началась после Второй Мировой и, постепенно замирая, тянулась до… Третьей Мировой. (Впрочем, оптимисты говорят, что таковой не будет. Это может значить и то, что значит, и то, что эмиграция вымрет раньше.) Сейчас это барахольный рынок, где в суверенном мусоре попадаются и вещицы от Фаберже и сюрпризы из Универмага, а на окраинах все еще сохранились лавчонки, как позавчерашней, без пробуждения уснувшей, подванивающей рыбой — торгующие подозрительной политикой.
Именно в них — или возле них — эмигрантские старожилы встретились с ищущими центрального отопления и душевного комфорта беженцами советскими.
Справедливость требует последних разделить на две, принципиально различные категории:
Первая, выдавленная как зубная паста из тюбика, из своей страны товарищем Сталиным или унесенная военными обстоятельствами, — сохранила классическую русскость, но приобрела удивительную способность с абсолютным слухом попадать в единомышленный тон любому нужному собеседнику. Кроме последнего качества — она, собственно говоря, не внесла ничего нового в эмиграцию, но — если так позволено будет выразиться — «вынесла» из нее многое: более разворотистые — вполне буржуазное положение, менее же когтистые и разворотистые — все возможные посты на Радио Свободе и в Институте Изучения СССР, а также неисчислимое количество профессорских кафедр (по русскому языку) в США.
Эту волну через три десятка лет дополнила вторая, совпадающая с великим еврейским исходом из СССР. Автором она недостаточно изучена, что, естественно, затрудняет ее характеристику.
В основных чертах эта волна отличается от первой тем, что у ее представителей нет уже в душе живых рубцов от сталинщины. Во всяком случае, ее представители, попав за границу, не покрываются холодным потом и не хватают собеседника за руки, когда в полночь у дома, где происходит дружеская беседа, случайно останавливается автомобиль «Черный ворон»?). Они даже подчеркивают, что их не выбросили, а они сами уехали, и некоторые даже обижаются, что, встречая дорогих гостей, старые зарубежные сидельцы не устроили комитета по их приему, не поднесли им хлеба-соли, не положили их сразу в пух или — хотя бы — в вату и даже (даже!) не «умыли им ноги».
Они уже очень многое знали о Европе, но все это было так абстрактно и перепутано, как отдельные части тела на портретах Пикассо, так что в действительной жизни такая «карточка» ни к чему: ни в полицию, ни для рекомендации, ни на память, ни чтоб узнать…
Они наивно думали, что стоит им выложить свои вузовские дипломы, как им сразу же на серебряном блюде, как именинную чарочку, поднесут ту возможность «творчески работать и свободно раскрывать свою личность», в которой так стесняло их социалистическое отечество.
Мысль для начала перевязывать пакеты или мыть в ресторане посуду — в первой эмиграции не смущавшая даже тех, кто в молодости ел только «на серебре и фарфоре», — им кажется величайшим святотатством по отношению к тому высокому служению, которое они на себя возложили.
Этот (третий) побег только что появился на маврийском дубе русской эмиграции и писать о нем мемуары преждевременно. Тем более, что пути его неисповедимы, а желания неутолимы. Как сказала одна заметно интеллигентная дама, когда автор настоящего удивился, что едва (с мужем и ребенком) перекочевав за границу и как будто никак не устроившись, — она с места в карьер ищет квартиру не меньше, чем в три комнаты с полным комфортом и обязательно (в Париже!) с телефоном и чтоб вокруг дома росли деревья — «Что вас удивляет?» — сказала это дама гневно и красиво сверкая весьма для этого приспособленными глазами. — «Вы жили в России всегда хорошо и вам было интересно (Tu parles!) за границей попробовать жить плохо! А мы только дорвались до хорошей жизни (в Москве у нее — правда, с сестрой — была квартира из пяти комнат) и опускаться не хотим!»
Куда они подымутся или как они опустятся — это увидит их пока что фыркающий на Европу десятилетний потомок. Пусть он и пишет о них мемуары. А нам приличнее держаться первой и второй волны великого рассеяния. С ним взлетели, с ним и потонем…
И вот все выяснено, все поставлено по своим местам. Остается только взять стило и… Но тут-то и вступают скрипки.
Ну, напишешь, а что же дальше?
Если писать только для себя, то лучше этого не делать.
Что же касается издания написанного, — то на этом тернистом пути не погибает только тот, у кого, во-первых, протекция, во-вторых — твердо выраженная «генеральная линия», которая, как известно, с той стороны железного занавеса — строго одна, а с этой — меняется с каждым редактором еще уцелевшего издания. И даже у одного и того же зависит от погоды и пищеварения.
Самое простое издать на собственный счет, подковав отчасти и добрых знакомых. Если же нет ни собственного счета, ни добрых знакомых — писать тоже не стоит, потому что самиздата в эмиграции нет.
Официальная же печать свой положительный плюс поместила в дореволюционном прошлом, которое у многих было, действительно, уютным. Если вернуться в него дорог нет — то хоть вспомнить (и помечтать) приятно. Так же, как и о падении большевиков, которое обещается со дня на день.
Поэтому эмигрантский читатель любит свою официальную печать и изредка выправляет ее робкие уклоны в действительность сердитыми письмами в редакцию.
Но и это еще не все. Мало издать мемуары на собственные деньги — надо иметь и достаточно поместительный чердак, чтоб неразошедшееся издание сложить. А разойтись оно может только по „генеральной линии», а если от нее в сторону — помимо добрых знакомых и двух-трех не разобравшихся или растерявшихся чудаков, никто ничего не купит (да и купило притупило).
Значит… Значит, получается, как в арабской поговорке: лучше не писать, чем писать. Если терпеть становится опасным для здоровья — пиши, но складывай в стол. Когда больше нет места в ящиках, — побегай по редакциям: сидячая жизнь приводит к склерозу и ожирению. Получив отовсюду отказы — передохни. Может, даст Бог, охота к писанию пройдет, а там — глядишь, найдется сумасшедший издатель, или большевики падут, или ты помрешь.
Увы, дорогие товарищи (по несчастью) читатели! По всем изложенным этапам автор уже — по другому поводу — прошел, но до сих пор не помер и желания писать не потерял. И вдруг пришла ему в голову мысль: а что если эти самые мемуары романсировать? Т. е. обработать под повестушку, где герои одеты в костюмы эпохи, живут в квартирах или отелях эпохи, все необходимое закупают в «Универмаге» эпохи, на пороге могилы — не переставая, беспощадно борются с большевистским злом — ходят молиться не в церковь, а в юрисдикцию и историю русской литературы изучают по парапсихическим трудам некоторых мемуаристов. Словом, герои ведут себя, как вполне исторические личности на полном закате первой и второй эмиграции, хотя — формально — ими не являются. Может, это будет развлекательней?
Попытка не пытка…
* * *
Вся жизнь твоя глубокий, долгий сон
Души, что спит в тугих объятьях тела,
Она давно проснуться бы хотела,
Но сон глубок и ночь со всех сторон.
1. Знакомство с псевдогероем
Не художник, а коммерсант
Уже дама с четвертого этажа, разложившись на подоконнике, успела рассказать даме с третьего, что порей опять вздорожал и его почти нет на базаре и что у Жаклин стали выходить глисты, а старушонка напротив за неимением более благочестивого занятия с утра до вечера начищавшая свою — и без того протертую насквозь — квартиру, несколько раз (и довольно громко) стряхнула из окна с аккуратной тряпочки воображаемую пыль в мировое пространство, попутно зыркая по этажам: что, где, у кого и как происходит — а Александр Петрович все еще спал.
Т. е. вернее не спал, но лежал с закрытыми глазами, не торопясь переходить окончательно из блаженного полубытия дремы в неутешительную действительность… Как он ругался в свое время, когда зашедшийся будильник каждое утро вытаскивал его за шиворот из самой чащи глухого сна. Теперь пружина — за ненадобностью — не заводится, и вот Александр Петрович, просыпаясь когда попало, вспоминает хриплый, заливистый, лающий звон своего бывалого недруга, как персидская роза Омар Хаяма — переставшего петь соловья.
После месяца безработицы почти счастливой стала казаться торопежка трудового быта, когда — давясь и обжигаясь, заглатываешь кофе, на ходу доедаешь бублик, через две ступеньки на третью свергаешься в метро — и втиснувшись в переполненный вагон, трясешься на другой конец гигантского города. А вокруг такие же трудовые страстотерпцы дожевывают, дозевьшают, дочитывают или, с угрюмым лицом и неподвижным взором, доковыривают какую-нибудь, со вчерашнего вечера не вытащенную душевную занозу.