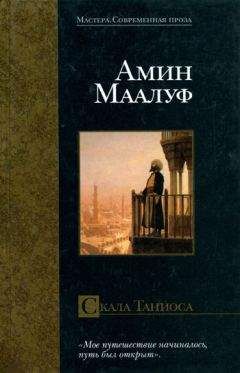«Отверженный» все говорил, говорил, положив одну руку на плечо дорогого гостя и размахивая другой в подкрепление собственных слов:
— Не может того быть, чтобы ты ничего в жизни не желал, кроме права каждое утро прикладываться к руке сына шейха, как твой отец целует руку его отцу. Если хочешь жить для себя, тебе надо выучиться, надо разбогатеть. Сначала учение, потом деньги. Не наоборот. Когда у тебя появятся деньги, уже не будет ни терпения, ни времени, чтобы учиться. Учение прежде всего, но настоящее учение, не то, что в школе у кюре! Потом пойдешь ко мне на работу. Я сейчас как раз строю новые червоводни для шелковичных червей, самые большие во всем Предгорье, но у меня ни сына нет, ни племянника, что мог бы унаследовать мое дело. Мне за пятьдесят, и даже если я снова женюсь, если наконец обзаведусь сыном, у меня все равно не будет времени подготовить его, чтобы он мог стать моим преемником. Само Небо послало мне встречу с тобой, Таниос…
Возвращаясь в селение, мальчик все повторял про себя эти слова. Лицо его сияло. Этот день для него окрасился надеждой на отмщение. Конечно, вступив в тайный сговор с отверженным, он тем самым предавал своих, но ощущение, что и они давно уже его предали, утешало. Вся деревня четырнадцать лет сообща владела секретом (до которого на самом деле никому, кроме него, не полагалось иметь касательства, и, однако, именно он один оставался в неведении), отвратительной тайной, поразившей его подобно недугу, проникающему до мозга костей! Теперь по справедливости дело обернулось так, что пришел его черед владеть секретом, недоступным всей деревне.
На сей раз он не постарался обойти Плиты, даже счел нужным прошагать по самой их середине, громко топая и небрежным жестом человека, который спешит, приветствуя тех, кто попадался ему на пути.
Миновав источник и начав подниматься по ступеням к замку, он обернулся, оглядел главную площадь и про себя отметил, что толпа там стала погуще, чем обычно, и разговор выглядит более оживленным.
На миг он вообразил, что весть о его «предательстве» уже распространилась; но люди обсуждали совсем другую новость: шейхиня скончалась после долгой болезни, сообщил об этом гонец, прибывший в тот же вечер, и теперь шейх готовился в сопровождении нескольких именитых жителей отправиться в Великое Загорье на погребение.
Никому в селении в голову не пришло разыгрывать скорбь. Эта женщина была, без сомнения, обманута, осмеяна, ее супружество, разумеется, стало ни больше ни меньше как унизительным испытанием, но со времени ее последнего визита ни одна душа в селении не признавала на ее стороне никаких смягчающих обстоятельств. Если послушать разглагольствования говорунов на Плитах, выходило, будто «саранчовой шейхине» было поделом все, что супруг заставил ее вынести за недолгие годы их совместной жизни, она лучшего и не заслуживала; и даже тогда, когда ее тело готовили к погребению, у некоторых поселянок с языка не сходило гнусное проклятие: «Дай ей Боже яму поглубже!»
Проборматывали такое тишком, с оглядкой, ибо шейх не одобрил бы подобного остервенения. Он проявлял больше сочувствия и держался, во всяком случае, достойнее. Когда гонец принес это известие, он созвал наиболее видных поселян, чтобы сказать им так:
— Моя супруга отдала вам последние годы отпущенного ей срока. Я знаю, нам пришлось пострадать из-за того, что совершила родня покойной, но пред ликом смерти такие вещи подобает забыть. Я хочу, чтобы вы со мной вместе отправились на похороны, и если там кто-либо обронит неуместное слово, мы не услышим его, так надо, мы останемся глухи, исполним свой долг и вернемся домой.
В Великом Загорье толпа местных жителей встретила их холодно, однако никого из них особо не задевали.
По возвращении шейх объявил трехдневные поминки, на сей раз у него в замке: мужчинам предлагалось собраться в Зале с колоннами, женщинам — в гостиной, где шейхиня прежде сиживала в окружении тех поселянок, что искали подле нее убежища от приставаний хозяина, то была просторная комната с голыми стенами и без мебели, если не считать низеньких скамеечек с мягкими сиденьями, крытыми голубыми хлопчатобумажными чехлами.
Но кому же было устраивать поминки? Автор горной хроники поясняет, что, коль скоро «усопшая на ту пору не имела в селении ни матери, ни сестры, ни дочери, ни свояченицы, роль хозяйки выпала на долю жены управителя». Славный монах воздерживается от комментариев, предоставляя нам самим вообразить атмосферу, которая должна была воцариться в гостиной, когда поселянки, движимые исключительно почтением к обычаю, в траурных белых и черных покрывалах, но без печали в сердце, гурьбой ввалились в комнату и, обратясь туда, где прежде восседала владелица замка, обнаружили на ее месте Ламию, а им полагалось приблизиться к ней, чтобы, склонившись, обнять со словами «Дай тебе Боже сил, чтобы пережить это горе!», «Мы знаем, как ты страдаешь!» или пролепетать еще какую-нибудь подобающую обстоятельствам ложь. Многим ли из этих женщин удалось во время сего каверзного ритуала соблюсти подобающую серьезность и достоинство? Об этом хроникер скромно умалчивает.
У мужчин все происходило совсем иначе. Там тоже никто не заблуждался относительно чувств, испытываемых остальными, но о том, чтобы нарушить благопристойную видимость, и речи быть не могло. Этого не допускало уважение к шейху, но прежде всего — присутствие его сына, которого он привез из Великого Загорья, пятнадцатилетнего Раада, единственного существа, имевшего причины горевать чистосердечно. Поселяне — и даже его собственный родитель — видели в нем чужака. Да таковым он, в сущности, и был, ведь его нога с годовалого возраста не ступала на землю селения; семейство его матери не поощряло бы таких попыток, да и шейх не решался слишком настаивать, боясь, как бы тестю не вздумалось прислать с внуком «эскорт» в своем вкусе…
Знакомство с этим молодым человеком стало сущим испытанием для жителей Кфарийабды. Причем испытание возобновлялось всякий раз, когда он открывал рот и слышался выговор уроженца Загорья, ненавистное наречие «саранчи». Само собой, он же там и вырос. «Одному Богу ведомо, что кроется за этим говором, — твердили они себе, — да и как знать, чего ему матушка его напела про наше селение?» Пока Раад был далеко, поселяне об этом вовсе не задумывались, но теперь до них дошло, что их господин, без малого шестидесятилетний, уже завтра может исчезнуть, оставив свои земли и людей во вражьих руках.
Если сам шейх и терзался подобным беспокойством, он отнюдь этого не показывал, а с сыном обходился как с мужчиной, которым он станет, и своим наследником, которым он уже был. Усадив его слева от себя и принимая соболезнования, он порой называл ему имена подходивших и краем глаза посматривал, проверяя, внимательно ли он наблюдает за жестами отца, сумеет ли их повторить. Ведь недостаточно встречать каждого посетителя сообразно его рангу, надобно еще принимать в расчет тонкости его положения. Если это арендатор Бу-Нассиф, в свое время пытавшийся мошенничать при дележе урожая, следует предоставить ему склониться, взять руку господина в свои, запечатлеть на ней долгое лобзание и только потом выпрямиться. Когда же перед тобой арендатор Тубийа, верный слуга всего господского семейства, надлежит, едва состоится поцелуй, тотчас подхватить его под локоть, изображая, будто помогаешь ему подняться.
Что до арендатора Халхуба, давнего соратника военных походов и охотничьих потех, он ему тоже поклонится, но с чуть заметным промедлением, заставив ожидать, что хозяин руку отдернет, но потом, приобняв, помочь выпрямиться и лишь после этого легонько чмокнуть в ответ, после чего ублаготворенный селянин вернется на свое место, подкручивая ус. А если подойдет черед арендатора Айюба, давно разбогатевшего и выстроившего себе дом в Дайруне, ему тоже следует помочь подняться и затем чмокнуть, однако лишь после того, как губы согбенного слегка коснутся пальцев господина.
Это только насчет арендаторов, но свои правила есть и в отношении к горожанам, к кюре, нотаблям, товарищам по оружию, есть особенности в обхождении с ровней, с замковой прислугой… Кое-кого надобно называть по имени, кому-то в ответ на его соболезнования положено отвечать какими-то фразами, касающимися его самого, да, понятное дело, не одними и теми же для всех, и тон должен быть разным.
И сверх того есть еще более особенные, совсем уж единичные случаи, как с Надиром, бродячим торговцем и погонщиком мулов, выгнанным из замка четыре года назад, а ныне использующим этот повод, чтобы добиться прощения. Он явился, замешавшись в толпу, с преувеличенно скорбным видом — тут шейх прошептал длинную фразу на ухо сыну, а погонщик мулов тем временем подошел, согнулся в три погибели, взял руку шейха, поднес к губам и надолго припал к ней.