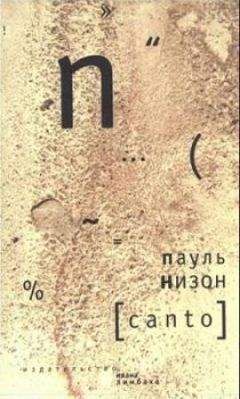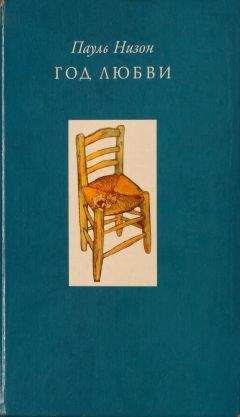В основном она сидит у себя в комнате, читает, окна всегда занавешены, спит, плачет, кто его знает, что она там делает еще! Как-то коротает время, и потом оно, вечно истраченное впустую, жалобно вопрошает в ее голосе. Но на нее и упрямство иногда находит, и тогда перед тобой оказывается вспыльчиво-взбалмошная девчонка-подросток.
Она и раньше уже бывала в Риме, она приехала сюда только для того, чтобы как-то уйти от скуки, царящей у нее дома, в провинции, в этой женской вотчине, которую все мужчины покинули, отправившись покорять новые земли, и пути-дороги увели их за океан, увели в гости к самой смерти. А на разных этажах родного дома оставались они: согбенная от вечного ожидания матушка («Сколько уж месяцев сыночек-то не пишет?»), старшая сестра, обуреваемая жаждой деятельности («Подожди, еще вот это сделаю, это у меня на сегодня запланировано, и поедем куда-нибудь». Куда? «Да я подумала, что неплохо было бы съездить послушать Гармонический оркестр, ну которые играют…»). Что? — Ах, бедная Габриэла, бедные, бедные сестры.
Когда однажды ее удается выманить из комнаты, она болтает без умолку, весело и возбужденно. Но в нити беседы всюду по-прежнему вплетаются прядки нескрываемой меланхолии, которая звучит в ее голосе. И мы понимаем друг друга. Но эти глаза… Огромная открытость глаз без ответа. Потом оказалось, что есть человек, по которому она тоскует.
Зовут его Мауро. Имя его она уже несколько раз упоминала и, в общем-то, дала понять, каких нервов он ей стоит. Этот красивый, сумасшедший парень. А потом, однажды ночью:
стук разбудил меня и вытащил из постели, в два часа ночи, Габриэла захотела познакомить меня со своим Мауро.
Высокий, очень высокий, очень бледный, нервное лицо красавчика, копна иссиня-черных, волнистых волос. Лицо-анахронизм, и такое же несовременное поведение. Одевался Мауро до чрезвычайности элегантно: либо с ног до головы во все белое, либо во все черное.
Мауро тут же берет меня в оборот, парализуя своей изнуряющей настойчивостью, и возникает такое чувство, что его слова сыплются на меня со всех сторон, он обрушивает на меня град вопросов, которые требуют немедленного ответа, но ждать нельзя, наплывают новые вопросы — так много надо спросить. Он все говорит, говорит, похохатывает, похихикивает, — и его несет дальше, и вот мы оба уже сидим в барке окончательного взаимопонимания, покачиваемся вместе на ласковых волнах доверия, но друг до друга нам далеко. Мне и делать-то ничего не надо, я просто наблюдаю весь этот стремительный спектакль. Ничего больше. И Мауро откланивается.
Мауро, жалобы на Мауро, проклятия — теперь это непременные спутники наших прогулок. Бесконечные вздохи, всхлипывающая резкость голоса — все это обрело теперь свою причину, я знаю, причина — Мауро. И что же Габриэла? Она поддается на уговоры, она опять и опять идет к нему, чтобы ее снова обидели, то есть — проигнорировали и оставили в дураках; чтобы опять вернуться разочарованной и поклясться: все! Это никогда не повторится! Но все повторяется, и она снова идет к нему. В ателье. Похоже, ему хочется только одного — чтобы она сидела рядом, пока он пишет свои картины. Он же работает тогда как одержимый, словно дух жив в нем только тогда, когда она сидит где-то сзади, сложив руки на коленях, и только тогда у него все получается. Она смотрит на него, он нравится ей таким, и пока руки у него заняты, пока взгляд и все внимание обращены на мольберт, а вовсе не на нее, — он именно в такие моменты может вальяжно рассуждать на разные темы, раскрывать перед нею перспективы, которые ей так нравятся. Обещания, плавно покачиваясь, стекают с его губ, обещания, которые никак не отражаются в его сосредоточенном взоре, но Габриэла все равно, сидя где-то позади, строит с его слов живописные планы, как ее римская история наконец-то начнется и как невообразимо она закончится, в то время как Мауро, стоя где-то впереди, живописует нечто совершенно другое. Они обо всем договариваются, все и вправду уже решено. Но потом… Мауро не приходит в назначенное место. Мауро заставляет себя ждать, он не приходит вовсе, он забыл, а она остается ни с чем. И у Габриэлы внутри все кипит. Обманщик! Жажда мщения, самые разрушительные идеи стремительно овладевают ею. Она начинает вести себя самостоятельно, проявляет во всем инициативу, принимается за работу, начинает активно общаться с институтской публикой, участвует во всем подряд.
Потом звонок. Поздно ночью. Мауро. Говорит в легкоузнаваемой сумбурной манере. Дешевые оправдания произносятся как бы между делом, а то, что он не явился, подается как ничтожный пустяк, она ведь не обывательница какая-нибудь. Но главное — он сразу же вмешивается в ее жизнь, он устраивает ей допрос по поводу ее падения, ее разгульного образа жизни, который он совершенно не одобряет, нет, он угрожает, он собирается положить конец этому безобразию, он заявляет, что явится немедленно, если она не послушается. Он велит Габриэле прийти к нему завтра же, не обращая внимания на ее ярость. Она нужна ему, он требует назад свою музу. Музу в образе покорно сидящей рядом с ним по-матерински нежной, задумчивой Габриэлы, которой на роду написано быть крестной матерью последнего художника во вселенной, и она отдается этому долгу с безграничным доверием.
И вновь, этого не скрыть, Мауро царит в ее жизни, которая сонно замирает, тратится попусту в вялом ожидании, озаряемая смутным сиянием надежды. Ведь он не то, что другие, и вполне возможно, что он питает пристрастие к пожилым благородным дамам, к «графиням», как поговаривают вокруг, вполне возможно, что это правда. Но ведь он же художник. Настоящий творец. Он ни за что не в ответе.
Габриэла живет в ожидании, в полной зависимости от той погоды, которой распоряжается ее божество, Мауро, с ног до головы в белом или с ног до головы в черном. Габриэла бессильна во власти метеостанции по имени Мауро. И ничегошеньки из этого не получается. И время уходит, не рождая событий, исходя жалобами в ее голосе. И вот время истекло. И настал день ее отъезда.
Покупки ты делаешь в самый последний момент, что-то для мамы, что-то для сестры. И мы выпиваем по рюмке водки, в последний раз, очень обстоятельно, еще четыре часа осталось, четыре часа до поезда. И с Мауро еще нужно встретиться, мне приходится вместе с нею идти к этому подонку. Пусть Мауро хотя бы деньги тебе вернет, которые в долг брал.
Мауро назначает нам встречу на Пьяцца-Венеция. И на этот раз он действительно приходит. Не успели мы явиться, не успел он пламенно, хотя и с оттенком серьезной собранности, поприветствовать нас, как в руках у нас уже оказываются бокалы. Можно подумать, что это заведение входит в число его обширных латифундий и нам оказана великая честь: сам хозяин лично изволил обслужить нас, угощая напитками. С большой серьезностью звучат вопросы о самочувствии, ее самочувствии. Ответа он определенно не услышал, потому что внезапно пришел в сильное волнение, ну да, конечно: деньги. Пачка, отделившись от другой, во много раз толще, переходит из рук в руки, но гораздо важнее вот что: Мауро заказали большой проект, холл одного отеля, там он должен сделать роспись, само здание еще строится, но он свою работу уже почти закончил, и нам обязательно нужно, нет, ну пожалуйста, мы не должны отказываться, этого пропустить нельзя, даже если поезд… мы просто обязаны это увидеть, едем немедленно, умоляющий жест: всего секунду терпения, рывок на улицу, «Такси!», а он уже заплатил? нет? сдачи не надо, вот и такси, господин Мауро собственноручно распахивает дверцу машины, мы уже едем, втроем сидим в салоне такси, Мауро примостился на откидном сиденье напротив нас, тесновато нам так ехать, в последний раз с Габриэлой по Риму, тесновато потому, что Мауро безостановочно говорит, слова наполняют салон, где сидим мы, отделенные стеклом от шофера, и мы готовы уже задохнуться среди них, они произносятся слишком быстро и не успевают выплыть в окно. Внезапно он велит шоферу остановиться, сам уже выскочил, просит секундочку терпения, «я мигом вернусь», и вот уже, высокий и белый, ныряет в толпу, тут же возвращается, с огромным букетом роз в руках, темно-багровый букет роз в целлофане, пылающий на фоне белизны его костюма, он молча опускает его прямо на руки Габриэле. И мы едем дальше по улицам, которые Габриэла должна испить до дна своим взором, ибо вскоре их поглотит дом и будни в провинции. Наконец приехали. Добыть ключи, освободить проход с помощью покладистых рабочих — для Мауро это раз плюнуть, он умудряется и тут ни на мгновение не прерывать потока своей речи. В совершенном смятении, пленники его словесного безумия, мы через какие-то ямы и доски добираемся до холла, целые и невредимые. Наскоро ввинченные голые, болтающиеся на проводах лампочки создают импровизированное освещение, и полные пафоса мясные туши каких-то мазков всплывают в этом ненадежном свете. И тут же вопрос к нам, просьба не кривить душой, и при этом — пристальный взгляд, проникающий на самое дно наших душ. Но он уже сам за нас и ответил и, словно гид, начинает объяснять, растолковывать, и руки его, отбрасывая тени, мечутся во все стороны по необозримой стене.