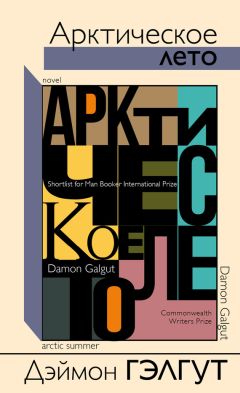Его отец вновь появился в их жизни шесть месяцев спустя, в форме еще одного резкого разговора с Лили по поводу скверного сыра. Они навещали Уэст-Хэкхёрст, дом в Эйбинджере, который старший Форстер спроектировал и построил для своей сестры. За ланчем, в саду, тетя Лаура спросила Моргана, как ему понравился сыр. Он только что отведал его – сыр был ужасен. Но он, закованный в броню вежливости и хороших манер, не смог заставить себя признаться, а потому солгал, сказав, что сыра еще не пробовал.
Лили видела, что он ел сыр. Она в упор посмотрела на Моргана, и он униженно опустил глаза.
– Ты ел этот сыр! – громогласно заявила Лили, а когда к ней повернулась Лаура, сказала: – Сыр плохой.
– О, какая жалость, – заверещала тетя. – Сейчас его уберут.
Но в конечном итоге сыр только отставили в сторону, и он оставался там до конца ланча, издавая слабый душок. Морган понимал, что Лили еще не закончила разговора о сыре, а потому, когда во время поездки домой она с иронией в тоне спросила, почему он солгал, Морган внутренне напрягся и сказал:
– Мне это казалось неважным.
– Ерунда! – произнесла она. – Ты просто струсил. Ты – как твой отец. Он всегда топал ногами не тогда, когда нужно. Как, собственно, и ты.
Она принялась копаться в своей сумке в поисках пастилок и наконец вынесла окончательное суждение об отце Моргана:
– Исключительно слабохарактерный тип.
Морган был сверх меры уязвлен этими словами Лили. Хотя она и любила мужа, но, когда упоминала его имя, что-то обязательно да подразумевалось. В целом же муж был для нее воплощением пустоты и неуместности. Главное, что отец оставил в наследство сыну, – ошибка, связанная с полученным при рождении именем. Морган должен был называться Генри Морганом Форстером, но перед обрядом крещения, когда служка осведомился у отца, каким именем они собираются наречь младенца, тот, ни минуты не задумываясь, назвал свое полное имя – Эдвард Морган Форстер. Поэтому Генри совершенно случайно стал Эдвардом, но, чтобы не путать его с отцом, все стали называть его не по первому, а по второму имени – Морган.
Лили, как отмечал Морган, никогда не говорила о своем муже с пренебрежением. Что его действительно беспокоило, так это пренебрежение, которое мать демонстрировала по отношению к нему самому. Он видел в ее глазах отвращение, вызванное самим именем Морган, и поэтому чувствовал глубокий стыд. Морган был совершенно бессмысленным, никому не нужным созданием, и жизнь его всегда будет средоточием нелепостей. Не имелось у него ни силы воли, ни мощи духа, с помощью которых он мог бы каким-нибудь образом определить и оформить свое будущее. Именно таковым Лили его видела, и это уязвляло его глубочайшим образом.
Ну что же, вскоре он покинет ее, всего через несколько месяцев; и, наверное, именно неотвратимость его поездки в Индию так омрачала ее настроение. Было решено, что Морган будет сопровождать мать и ее добрую подругу, еще по Тонбриджу, миссис Сесилию Моу, до Рима, где оставит их, к своей неизбывной печали, предоставив попечению друг друга, а сам в Неаполе сядет на корабль, который доставит его в Бомбей, откуда он двинется на север, чтобы воссоединиться с Масудом в Алигаре. Впоследствии ему предстоят и другие поездки, но пока именно встреча и воссоединение с Масудом лежали в сердце всего его путешествия.
Масуд уехал домой в начале года, и последствия его отъезда оказались совсем не такими, как ожидал Морган: ему было гораздо труднее пережить разлуку с другом, чем он предполагал, но одновременно отсутствовала и резкая жгучая тоска, которой он ждал и которой боялся. Масуд оставил позади себя пустоту, где эхом отражалось и каждое слово, и каждый жест; мрак и уныние поселились в предметах, окружающих его, и даже самые милые сердцу английские пейзажи уже не успокаивали. Почти сразу после отъезда Масуда Морган отправился в Белфаст, навестить Хома. Что он хотел там найти? Какое-то успокоение? Сочувствующие мужские объятия? Вместо этого он оказался в самом центре бдительного и сурового города, раздираемого политическими бурями. В Ольстере бушевала революционная риторика, яростные дебаты по поводу отделения от Англии, на которые бросал тень визит Первого Лорда Адмиралтейства Уинстона Черчилля, привезшего на север острова новые предложения по поводу учреждения там автономии. Незначительные поначалу разногласия готовы были перерасти в нечто более значимое: не исключалась возможность гражданской войны.
Хом привел Моргана на чай в дом верного сторонника Ольстерского Клуба реформ, который противился установлению любой из форм автономии. Этот человек, во всем прочем придерживавшийся широких либеральных взглядов, сразу же заявил Хому и Моргану:
– Белфаст готов выслушать любого человека, но только не Иуду, и не того, кто при каждом удобном случае выворачивает пальто наизнанку.
Так в Ирландии именовали ренегатов, и Морган почти автоматически бросил быстрый взгляд на свое крайне удобное и практичное двустороннее пальто – он не помнил, какой стороной его сегодня надел. И с трудом подавил ухмылку.
– Мы не собираемся действовать в соответствии с какими-то там принципами, – громко продолжал говорливый политик. – И мы не станем притворяться, что эти принципы у нас есть.
Его миниатюрная жена, которая чуть поодаль от стола занималась с ребенком, неожиданно вторглась в разговор, заявив:
– Это только показывает бесполезность любых принципов.
После чего, но уже более взволнованным и высоким голосом, она повторила эту сентенцию своему младенцу.
Все события были в высшей степени тревожными. Морган, уезжая, пообещал матери, что не станет участвовать в массовых сборищах на ближайшем стадионе, но везде, куда бы он ни направился, атмосфера была накалена и жестокие стычки могли произойти буквально из ничего. В город было введено до четырех тысяч военных дополнительно. Морган отправился к центральной гостинице, где остановился Черчилль, и ждал там вместе с толпой, сгрудившейся в фойе. Он не знал, зачем пришел сюда, тем более что особой любви к этому человеку не питал. Но момент был исторический. Он услышал рев толпы, собравшейся на улице, когда Черчилль появился у окна, а вскоре этот невысокий, но крупный человек с болезненно-бледным лицом цвета корня, сидящего глубоко под землей, появился в фойе и, проходя сквозь толпу к выходу, задел Моргана. Не уверенный, как ему ответить на это прикосновение, Морган вежливо приподнял шляпу.
Взрастающие побеги религиозного конфликта породили первые трещины на монолите империи. Морган возвращался домой с таящимся в глубине души беспокойством, ощущая под ногами глухие подземные толчки. И это ощущение тревоги, казалось, не имеющей корней, и дома не позволяла ему чувствовать себя спокойно. Желание писать в нем иссякало, а без него жизнь была совершенно пустой. Он влачил свои дни, читая газеты и переедая за столом, иногда выполняя поручения матери, а иногда катая ее на лодке по реке. Спал в кресле в саду и без всякого энтузиазма играл на фортепиано. Себе он казался человеком без хребта, неспособным определить свою сущность хотя бы для того, чтобы в ней разочароваться.
Поэтому, когда он услышал, что Голди получил свой первый грант от Альбера Кона и решил использовать его для поездки на Восток, а кроме того, еще и Боба Треви убедил к себе присоединиться, Морган наконец принял решение. В конце года он будет в их компании!
К его удивлению, Лили не пришлось долго уговаривать. Слегка подлизаться, поиграть на нежных чувствах – и она не возражает. Естественно, она уже предполагала нечто в этом роде.
– Конечно, ты должен поехать, пока не превратился в старика, – сказала она. – И я рада, что с тобой будут друзья. Ты же совсем не умеешь путешествовать. Постоянно теряешься и забываешь путеводитель Бедекера.
– Я не думаю, что постоянно буду с ними. У меня есть и индийские друзья.
– Ты имеешь в виду Масуда? – спросила она.
И, поразмышляв минуту, заявила:
– Конечно, очень хорошо, что ты встретишься с ним у него дома.
– Это почему? – не понял Морган.
Лили печально улыбнулась:
– Если он когда-нибудь вернется в Англию, все здесь будет уже не так.
В сравнении с более занятными вещами, которые Морган повидал во время путешествия, пещеры его разочаровали. Правда, подъезжать было интересно: сидишь на раскачивающейся спине верблюда, который по обожженной равнине несет тебя к Барабарским холмам, а из дымки на тебя надвигаются гигантские скалы. Первая из скал оказалась самой удивительной – подобной огромному каменному пальцу, указывающему на небо. Только когда подъезжаешь ближе и видишь ее сбоку, она изменяет форму: появляется вытянутый хребет, а гигантский булыжник на вершине превращается в веерообразное скопище камней поменьше.
– Это Кава Дол, – сказал, улыбаясь, Имдад Иман.
– Что это означает?