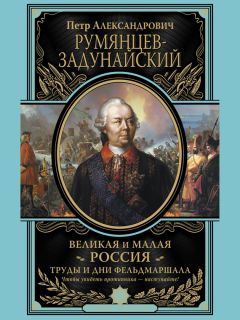«Когда, значит, уходите? Завтра утром?» — направляясь к двери, спросил Лайоша барин. Он сунул руку во внутренний карман, но бумажника, видно, с ним не было. «Прежде чем уйти, обязательно загляните ко мне. Как бы ни было рано, разбудите». Он вяло и все-таки хитровато улыбнулся: «Хочу вам разыскать стихотворение Ади. Конец там вроде бы обнадеживающий. Потому я его и забыл». И он ушел к гостям. Лайош слышал музыку, радио: видно, какая-то дверь осталась открытой. В кухню кто-то входил, выходил — со стаканами, кофе, блюдцами. Значит, правду сказал мусорщик. Ну, Маришка, теперь точно можешь писать, как когда-то давно, когда только-только уехала в Пешт: Лайош, мол, пусть не приезжает сюда, не для него это место.
Он долго слушал доносящуюся из комнаты музыку, а на заре, еще в полной тьме, свернул одеяло, собрал мешок, приготовил пальто. Перед этим он задремал немного, гости как раз уходили, в полусне он слышал их смех и топот в прихожей. Сейчас он не хотел дожидаться, когда в доме встанут; он уйдет не прощаясь, как задумал раньше, только мешок свой не станет выкидывать через окно. Нацепив одну лямку мешка на плечо, он прошел через прихожую. В небе еще дрожали одна-две звезды, но снег опять начинал, тихо кружась, падать на землю. Лайош прислушался к себе — сердце не сжалось, не заныло по Тери; он был рад этому. Ничего он не уносит отсюда и ничего здесь не оставляет, кроме прожитого полугода. Даже онемевший будильник лежит у него в мешке. Барин денег хотел ему дать — а, уйдет он и без денег. Не нужна ему их доброта, и не хочет он быть для барина душевным лекарством. Стих этот был лишь предлогом: не хотел барин прямо говорить о деньгах… Стих напомнил ему про книгу, что осталась в бельевой под матрацем. Станут матрац убирать — и найдут ее. Скажут: наверняка еще что-то стащил, вон и под матрацем ворованное. Он поставил мешок под навес и вернулся за книгой. С собой он ее не возьмет, положит в кабинете на полку. Внизу никто из господ не спит, можно не бояться, что услышат. И по крайней мере еще раз пройдет по тому пути, по которому столько раз таскал ведро с углем.
Он осторожно шел вперед в темноте. Ставни после веселья забыли закрыть, в разоренную комнату проникал через окна слабый свет. На пороге кабинета рука его замерла: дверь была заперта. Раньше этого не бывало. Из-за двери доносился какой-то звук, вроде храпа; он и до этого слышал его, да думал, звук доносится откуда-то сверху, через шахту воздушного отопления. Барин, видно, нынче спит в кабинете. Или, может, какой-нибудь пьяный гость там уснул? Он прижал ухо к двери. Странный это был храп, никогда он еще не слыхал такого. Словно свинью закололи, и она уже еле хрипит. Он ощутил вдруг, как спину залил ледяной пот. Уйти потихоньку — или открыть дверь? Барин сказал ведь, чтобы Лайош его разбудил, как бы рано ни было, в случае чего этим можно оправдаться. Он прижал книгу к груди и нажал на ручку. Дверь была заперта на замок, но задвижки не были подняты, и под нажимом дверь распахнулась. Лайош увидел, что барин лежит на полу возле кресла; голова была еще на сиденье — оттуда, должно быть, он съехал с раскинутыми ногами. Лица его не было видно, но теперь Лайош ясно слышал, что это не храп, а хрипение. Не включая свет, он швырнул книгу к письменному столу и выскочил из кабинета. Он стоял в середине столовой, освобожденной для танцев, и слышал, как стучит сердце. Убежать — требовало сердце, но крестьянский инстинкт говорил: опасно потихоньку уходить из дома, где случилось несчастье. На носках он поднялся по лестнице. С тех самых пор, как ее покрыли лаком, он не ходил по ней. «Барыня!» — сказал он негромко. И потом погромче: «Барыня!» Хозяйка после беспокойного вечера спала, должно быть, тревожно: скрипнула кровать, босые ноги зашлепали по ступенькам алькова. «Что такое? Это вы, Лайош?» — спросила она; но не слышно было, чтобы она шла дальше. Лишь по голосу Лайош представил испуганную, в одной лишь сорочке идущую навстречу судьбе женщину. «С барином что-то, — сказал Лайош с верхней ступеньки. — Лежит возле кресла и хрипит». «Кто хрипит? Барин?» — вскрикнула барыня. Во вспыхнувшем свете она стояла перед ним как воплощение ужаса. «Я как раз уходил, потому что первое нынче, мне заступать надо на место. Тут и услышал, что он хрипит», — объяснял свою роль во всем этом Лайош, спускаясь следом за барыней. Когда он вернулся в столовую, там уже горел свет, хозяйка стояла возле барина на коленях. Рука, которую она схватила, была холодной и влажной. «Банди!» — закричала она, опускаясь на тело хрипящего с открытым ртом мужа. Потом обежала взглядом его руки и ноги, ища, за что взяться, чтобы его оживить. И лишь теперь ужас растянул до предела ее ставший огромным рот. «Господи, он отравился или не знаю, что он с собой сделал! — завизжала она вскакивая. — Лайош, бегите к соседям! Немедленно „скорую помощь“! Да стучите, пока не проснутся». И, отдав первое распоряжение, снова присела, сняла голову мужа с сиденья и положила ее на пол. «Банди! — выбегая, слышал Лайош отчаянный ее крик. — Банди, если б я знала…»
К воротам соседей не было тропки, Лайош бежал, проваливаясь глубоко в снег. Низенькая калитка в ограде была закрыта; он поставил ногу на ручку и перепрыгнул в сад, упав по ту сторону на колени. «Куда так спешим?» — шел к нему Даниель, который в глубине, у господского дома, чистил дорожку, двигая перед собой широкую деревянную лопату. На пороге сторожки, услышав шаги, появился его ученый сын. Лайош впервые был на соседском участке, лишь теперь он увидел вблизи домик дворника, на котором снег выложил вторую, белую крышу. Несчастье открыло ему дорогу везде, даже во владения самого страшного его врага. «Позвонить надо: барин у нас отравился!» — крикнул он, припадая на ушибленное колено. «Кто? Хорват?» — спросил Даниель, останавливая лопату. Он сделал несколько шагов к дому, но потом отстал и, опираясь на лопату, крикнул: «Стучи вон в то окошко с решеткой! Горничная там спит». Перед Лайошем стояла всклокоченная сонная прислуга. На стук, к счастью, вышел в пижаме и сам председатель. «Что? Как?» — откашливался он, изгоняя из легких нарушенный сон. За ним в дверь выглядывала испуганная председательша, потом появилась и барышня, что в коротких штанишках прыгала летом в саду. «Да ведь мы до поздней ночи вместе были, — сказал, крутя диск телефона, председатель. — Я ничего по нему не заметил». «О, а я обратила внимание, какой он молчаливый», — вспомнила жена. Лайош мог идти с вестью: «скорая помощь» выехала. Перед дворницкой его перехватил ученый юноша. «А из-за чего это он? Из-за несчастной любви?» — спросил он, одновременно выказывая презрение к несчастной любви и к мещанину-самоубийце. Лайош пожал плечами. Не нравился ему этот социолог. Ничего он не знает еще, а думает, что все знает.
Когда он вернулся, в кабинете были уже и остальные женщины. Гувернантка, всклокоченная, стояла над супругами, один из которых хрипел, другая рыдала, и, возмущенная тем, что ей приходится портить нервы из-за таких выходок, недостойных порядочного человека, время от времени протягивала руку и дотрагивалась до вздрагивающих плеч барыни. Тери вбежала с чашкой холодного кофе, подбородок и нос ее были красны от еле сдерживаемого плача. «Может, все-таки было у нее что-то с барином?» — мелькнуло в голове у Лайоша. Сам он не стал входить: и так много народу толпится, — лишь передал с Тери, что «скорая помощь» в пути, и сел в кухне на табуретку. Может, надо будет еще отвечать на вопросы, стоит немного подождать; а пока что он привел в порядок свои мысли. Книга вполне могла с полки упасть. Полчаса назад, когда барина трясли, он покосился туда — книга точно лежала под полкой. А вообще-то о книге сейчас никто не станет думать, остальное понятно; он собирался уйти, услышал хрип и вошел. Кто потом сможет сказать, слышен был хрип в прихожей или нет? Ничего не знаю, двери были открыты. Но вот его новое место… Вдруг кто-то захочет выяснить, что это за место. Лучше всего, если он внесет обратно мешок и скажет: встал посмотреть, приехал ли мусорщик…
Когда он вышел, по улице взбиралась уже, пыхтя, карета «скорой помощи». Бросив в кухню мешок, Лайош пошел к калитке. «Это тридцать первый номер?» — крикнул шофер. «Точно. Останавливай, сюда вызывали». С машины слезли врач и два санитара, вошли в дом и скрылись в кабинете. В кухню вбежала Тери, поставила воду в большой кастрюле на огонь, который развела еще раньше. «Промывать будут желудок, — сказала она, — отравился он». Промывание желудка отвлекло ее мысли от барина, которого она только что оплакивала. «Даже не знаю, — сказала она с боязливым любопытством, — как я буду на это смотреть». Горячая вода унесена была в комнату, и из открытой двери раздался обеспокоенный голос барыни: «Это держать?» Лайош остался на табуретке, рядом стоял мешок. «И зачем это он, бедолага? — размышлял он. — Может, потому, что другие плясали, а ему надо было нести вину?..»
Санитары внесли носилки, появилась и Тери с тазом. «Вы не поверите, — возбужденно сообщила она, — вся вода через него прошла». Лайош не ответил. Во всей этой круговерти он потерял какую-то важную мысль и никак не мог теперь ее найти. Носилки с трудом протиснулись через узкую прихожую, на которую так сердились таскавшие мебель голиафы. Лайош на минуту увидел и барыню — она была в шубе, лицо ее от слез словно разлезлось, все состояло из пятен, бородавок, морщин и подергиваний. «Я обещаю вам, сударыня, — сказал врач. — Можете мне поверить, все будет в порядке». Носилки скользнули в машину, врач подсадил туда и хозяйку. В заснеженной тишине прогнусавил длинный сигнал. От соседей пришла барышня, и Тери отвела ее наверх, к испуганным детям. Там они утешали, успокаивали втроем Тиби и Жужику.