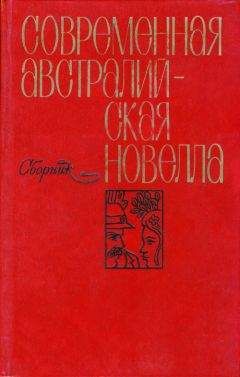Без миссис Билсон мы бы с Джо пропали. Мы бежали за ней, как два щенка, а она, уж поверьте, умела бегать. Неслась сломя голову, задрав юбки выше колен и изогнувшись, как вопросительный знак. Совсем не стеснялась голых ног. «Не могу я видеть ее ноги, — сказал мне однажды Джо. — Они такие ужасно тонкие. Вот-вот сломаются. Не понимаю, как она может на них ходить».
Если мы не теряли ее из виду, можно было считать — удерем.
Перепрыгнув через забор, как заяц, она мчалась во весь опор дальше. Если платье цеплялось за гвоздь, она дергала посильнее — и вспоминала о дыре, только когда была в безопасности, укрытая спасительным стогом сена. Да и то ненадолго.
— Когда я была маленькая, — говорила миссис Билсон, — мы носили столько юбок, что не могли лазить через забор. Другой раз приходилось тащиться до калитки целую милю.
И вот мы сидим под стогом сена и едим яблоки. Миссис Билсон рядом, но мысли ее где-то далеко. Мы разговариваем о ней, будто ее здесь нет. Говорим не тихо, не громко, а захотим вернуть ее с небес на землю, немного повысим голос, и все. И она сразу же отзывается, встрепенется, вскочит на ноги и начинает ходить туда-сюда, туда-сюда. Не ходит, а как бы стелется по земле, как лиса.
Помню, однажды я отстал со своими костылями. Миссис Билсон скакала через луг, похожая на большого кузнечика. Джо поспевал за ней в двух шагах. Когда я добежал до стога, из-за него торчали одна над другой две головы. Сколько в ней было жизни, в миссис Билсон! Это было видно по глазам. И соображала она быстро, и двигалась быстро.
— Мама! Мама! Пора домой, — несся со стороны дома голос миссис Херберт. — Чай остывает. Мама, да где ты? Ты слышишь меня?
Мы брели к дому, и с каждым шагом миссис Билсон на глазах старела, дряхлела. На пороге черного хода стояла миссис Херберт и выговаривала матери:
— Где ты была? У тебя такой замученный вид. Не забывай, тебе уже семьдесят шесть. Если не угомонишься, до восьмидесяти не дотянешь. Почему ты никогда не слушаешься? Ведь ты убиваешь себя! — Потом обратилась к нам: — Как она сегодня? Далеко забрела? Опять какую-нибудь чепуху молола?
— Когда она с нами, она всегда рассуждает здраво, — сказал я.
— В грязь не лезла?
— Нет, что вы, — заверил миссис Херберт Джо. — Она чистюля, каких мало.
Мы всегда очень следили за тем, чтобы миссис Билсон, упаси бог, не перепачкалась в навозной жиже свинарника. От этого миссис Херберт приходила в неописуемую ярость. Коровий навоз она еще могла стерпеть, но, увидев на платье матери свинячье дерьмо, она прямо заходилась.
— Опять ты лазила к свиньям в загон! Посмотри, как ты изгваздалась. Не смей больше подходить к свиньям. Сколько раз тебе говорила! — Тут она поворачивалась к нам: — Пожалуйста, мальчики, не пускайте ее туда. Мне приходится скребком чистить ее платье.
Миссис Херберт страдальчески морщилась, когда слышала из наших уст «свинячье дерьмо», особенно в присутствии матери. И мы с Джо старались не оскорблять ев слуха. Но на другой день, встретив миссис Билсон на скотном дворе, Джо спросил, почему ее дочь так раздражается, услыхав, как мы говорим: «свинячье дерьмо».
— Потому что старая ведьма совсем из ума выжила, — отвечала миссис Билсон.
По-моему, она не очень-то любила миссис Херберт. Не то чтобы ненавидела, нет. А просто презирала.
Мать Джо много рассказывала ему про миссис Билсон.
— Не осуждай старуху, спаси ее господь, — сказала она как-то Джо. — Только я одна знаю о ней всю правду. А из меня ее щипцами не вытащишь.
И тут она рассказала Джо, что знала о старухе. А Джо рассказал мне. История была печальная. И Джо не мог долго хранить ее в тайне.
— Мне бы хотелось умереть, лежа в траве, — сказала нам однажды миссис Билсон, сорвав пучок травы и прижав его к лицу.
Джо было неприятно это слышать. Он был католик и к смерти относился очень серьезно.
— Мы с Джо будем сильно горевать, если вы умрете, — сказал я.
— А то как же, — согласилась она. Потом вдруг рассмеялась: — И никто никогда не узнает правды. Мне бы очень хотелось рассказать вам, мальчишкам. Но дело в том…
Джо, нахмурившись, взглянул на нее, опустил голову и, дотронувшись до ее плеча, сказал:
— Моя мама нам все рассказала. Мы знаем, что миссис Херберт не дочь вам. Только не расстраивайтесь, что мы это знаем.
Миссис Билсон выслушала эти слова очень спокойно. Сидела и смотрела куда-то вдаль. Я почувствовал, что мы сейчас лишние. Тихонько толкнул Джо, мы встали и ушли.
Нас никогда не стесняло присутствие миссис Билсон. Она была нашим другом, такая же, как мы.
— Знаешь, почему мне нравится миссис Билсон? — спросил меня как-то Джо..
— Почему?
— Потому что при ней можно говорить что хочешь. Как будто она вовсе и не взрослая.
И я это чувствовал. Я даже как-то сказал ей:
— Если вам захочется по-маленькому, миссис Билсон, скажите, и мы отвернемся. А то, не дай бог, грех случится, нам всем от миссис Херберт не поздоровится.
Миссис Билсон обрадовалась — не описать. Весело так улыбнулась и говорит:
— По-моему, уже захотелось.
Встала, отошла за стог и сделала что надо.
Миссис Билсон просто невозможно было не любить.
— Как хорошо ранней весной, — как-то сказала она, — Особенно когда ты совсем молодая. Коровы лежат на траве, жуют жвачку. Вечером выйдешь на задний двор стряхнуть после чая скатерть и слышишь, как шумно они вздыхают. Вечером далеко слышно. А ночи еще холодные. Люблю я холодные весенние ночи. Так хорошо!
Та ночь, когда ее нашли мертвой возле загона, была очень холодная.
— Она была белая как снег, — сказал нам Пуддин. — Лежит навзничь, лицо застыло, а глаза смотрят в небо. Как почуяла, что смерть близко, ушла из дому. Да так тихо ушла, что никто и не слышал. Уж на что я чутко сплю — муха пролетит, просыпаюсь — и то не услышал.
Мы с Джо стояли у загона с силками в руках, а миссис Билсон не ждала нас. Ее больше не было. И на всем свете у нас не осталось никого, с кем мы могли бы поговорить, как говорили с ней.
Перевод И. Архангельской
В тысяча девятьсот четырнадцатом году, когда землю поразила великая засуха и на привольных пастбищах целыми стадами умирали от голода и жажды коровы и овцы, хрипя и корчась в пыли, Дану Мэнниону было семьдесят восемь лет. И какие же это были долгие семьдесят восемь лет. От одиночества он уже давно привык разговаривать сам с собой, иногда по ночам кричал что-то звездам, чей слабый свет с трудом пробивался сквозь ветви сосен, под которыми стоял его дом, или фонарю у ворот церковной ограды, который тихо покачивался на железном столбе в туче ошалело вьющейся мошкары. Лицо у Дана было точно поле, разоренное тайной нескончаемой войной, в широко раскрытых глазах навеки застыл вопрос.
Он жил в лачуге, которую сколотил себе сам из досок от старых ящиков и ржавых листов рифленого железа. Лачуга прилепилась у ограды крошечного выгона за церковью, под четырьмя соснами-великанами. Ветви сосен сплелись над ее крышей, будто руки борцов, схватившихся из-за нее в поединке. Враги молча стояли в своем яростном объятии, и лишь ветер исторгал из них протяжные вздохи и стоны. Земля у их корней была устлана толстым, мягким слоем хвои; осенью, когда зарядят дожди, из-под хвои вылезали огромные грибы, они появлялись на рассвете поднимая на себе из тьмы целую шапку игл.
Казалось, и сам домишко тоже вылез из земли, как гриб. От него слегка пахло плесенью, на крыше лежал ворох опавших иголок. У двери стояла деревянная скамейка, и душными вечерами, когда на западе полыхал закат, Дан Мэннион садился на нее и, глядя на багровое небо, медленно отрезал от плитки прессованного табака тонкие, завивающиеся стручки, растирал их в ладонях, набивал трубку и плотно уминал табак пальцем. Потом чиркал спичкой, раскуривал трубку и, окутываясь в сумерках дымом, погружался в свои заветные мечты о ферме, которую он когда-нибудь купит. На этой ферме всегда стоит лето и перепадают теплые, благодатные дожди, в густой траве пасутся тучные породистые коровы и мериносы, они время от времени поднимают головы и глядят в сторону реки, где Дан Мэннион ставит своими ловкими, могучими руками забор, через который не пробраться ни одному хищнику. Орудуя ломом, он играючи опускает в ямы столбы надежного забора, который оградит и защитит его владения, его собственность…
Дан любил работать и уже почти пятьдесят лет копил деньги, которые он зарабатывал. Те, кто нанимал Дана, ценили его, как ценят верного пса. Вот на кого можно положиться, говорили они, вот кто не подведет, не обманет, работает не за страх, а за совесть, и в будни и в праздники, днем, ночью… Славный, безотказный Дан Мэннион, мечтающий о ферме, где на берегу реки будут пастись тучные коровы и мериносы!