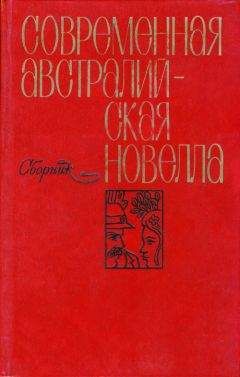Случалось, он во месяцу-полтора работал на какого-нибудь богатого фермера, окучивал картофель, тесал колья, рубил дрова, и хозяева щедро ему платили. Ему давали новенькие чеки, вырывали их из книжки и прямо на его глазах подписывали. Он знал все подписи хотя сам не умел ни читать, ни писать, да это было и не важно: ведь каждая подпись завершала этап в его жизни, была наградой, венчавшей его труд. Рядом с подписью стояло число, месяц и год, и эти даты Дан тоже научился различать, потому что с каждой было связано какое-нибудь важное воспоминание. Все до единого чеки он хранил в стальной шкатулке, которая запиралась на ключ. Ключ был привязан к ручке шкатулки на шнурке, и шкатулку можно было отпереть, не отвязывая ключа. И шнурка как раз хватало, чтобы вставить ключ в отверстие, и, хотя он туго натягивался, когда ключ поворачивали, замок все-таки отпирался. Дан Мэннион открывал шкатулку в те ночи, когда позволял себе думать о ферме, которую он однажды купит на собранные чеки. Иногда он вынимал из шкатулки аккуратно связанную пачку и рассматривал чеки один за другим, вспоминал слова, которые говорили хозяева, вручая ему их:
— Спасибо, Дан, что бы мы стали без тебя делать!
— До чего же хорош забор, Дан. Золотые у тебя руки…
И когда Дан Мэннион вспоминал такие похвалы из уст людей, которые ездили в легких лакированных колясках на чистокровных рысаках, он чувствовал себя счастливым. На первом чеке в его шкатулке стояло первое октября тысяча восемьсот шестьдесят седьмого, на последнем — тридцатое июня тысяча девятьсот четырнадцатого года. Иногда за мелкую работу с ним расплачивались наличными, и их он тратил на табак и на еду, не приобщал к хранящимся в шкатулке чекам, которые в один прекрасный день дадут ему свободу и богатство. Фермеры радовались, что чеки Дану Мэнниону не уменьшают их счетов в банке, и наперебой старались заполучить его к себе. Он никому не отказывал, наоборот, он сам всегда искал работу.
А потом настал тысяча девятьсот четырнадцатый год, и землю поразила засуха. Стада умирали возле высохших прудов на растрескавшейся глине, в тени безжизненно поникших деревьев, и в неподвижном, раскаленном воздухе стоял запах пыли и тления.
Фермеры уже не могли больше нанимать батраков, даже Дана Мэнниона. Они глядели, как умирает скот, и ждали животворного дождя, а дождь так и не проливался. Что было делать? Лавки перестали отпускать им в кредит, банки не выплачивали денег… им казалось, что там, на выжженных пастбищах, умирает не только их скот — умирают и они сами.
Хозяева, на которых раньше батрачил Дан Мэннион, знали, что сейчас он ночи напролет бродит по округе. Его видели на пустынных пастбищах за много миль от лачуги под соснами, он стоял над умирающим животным смутной, едва различимой в темноте тенью, потом шел к другому, третьему, и в свете фонаря, который он нес, мелькали тени его ног. Он тащил за собой самодельную тележку на двух колесах, с осью из погнувшегося лома, которым он, бывало, поднимал с земли столбы забора, чтобы поставить их в яму. На эту тележку он складывал шкуры коров и овец, которых он убивал. Когда он видел, что животное вот-вот издохнет, он склонялся к нему с ножом, у горла мелькала сталь, животное корчилось в судорогах… он ждал, когда судороги стихнут. То, что он делал, было для них милосердием, и все равно он страдал. Их предсмертная агония, их сдавленный, захлебывающийся хрип преследовали его до самой лачуги за церковью. Дома он бросался на топчан, но и во сне измученный мозг не отдыхал, его и во сне мучили видения все тех же издыхающих овец. День за днем красное на рассвете небо раскалялось добела, и Дан уже не говорил сам с собой — он молился. День за днем он разглядывал свою аккуратно связанную пачку чеков, которую он отдаст, когда придет время, за ферму на берегу прохладной реки.
Выручку от продажи шкур он в шкатулку не складывал, эти деньги он расходовал на табак и на еду. А в шкурах недостатка не было. Скота с каждым днем умирало все больше, животные вдруг начинали шататься, падали и бились в судорогах, уходя из жизни, где их так терзали жажда и голод. Тогда из темноты выступал Дан Мэннион и наклонялся над теплым еще телом, точно священник, пришедший отпустить грехи. Но вот корчи стихали, нож быстрым, точным движением вспарывал шкуру, руки хватали края, оттягивая ее от плоти. Дан заходил с другой стороны, переворачивал тушу на спину, на бок и резал, резал, резал в серебряной лужице под звездами. Он становился ногами на шкуру и наконец отделял ее от туши, а потом оттаскивал ободранное, с торчащими к небу ногами животное из лужи крови в пыль. Шкуру он аккуратно свертывал мездрой внутрь, клал на тележку и привязывал веревкой, потом впрягался в тележку и начинал свой долгий путь домой. Дома он посыпал шкуры солью, снова свертывал их и складывал у сосны, где утром их заберет скупщик.
После изнурительного путешествия домой в тягостной духоте ночи ему больно сдавливало грудь. И прежде чем обрабатывать шкуры солью, он входил в свой домишко, размешивал в стакане ложку чайной соды и выпивал это «лекарство», в которое так свято верила, он помнил, его мать.
Однажды утром кто-то из фермеров постучался к Дану, чтобы попросить его сделать запруду, но Дан не ответил на стук, и тогда соседи позвали доктора.
— Сердце не выдержало, — сказал доктор, выходя из лачуги. — Умер.
На похороны съехались в своих блестящих, вымытых колясках окрестные фермеры.
— Говорят, он накопил тысяч пятьдесят, а то и больше, — сказал мистер Поллард мистеру Коллинзу. В шкатулке Дана Мэнниона хранилось немало чеков с подписями обоих.
— Не сомневаюсь, — ответил мистер Коллинз, оглядывая крошечный выгон. — Наверное, где-нибудь здесь их и зарыл. Старики обычно зарывают деньги в землю, никому их не доверят. Что ж, мне пора. Счастливого вам Нового года!
— Спасибо, — сказал мистер Поллард. — Вам тоже.
© A. Marshall, 1975
Перевод И. Архангельской
— А вам скоро все равно придется расстаться с вашим динго, — заявляет мне мой сосед Свинберн через забор, разделяющий наши владения. — Что поделаешь, это ведь азиатский волк…
— Никто из специалистов не считает, что динго — азиатский волк, — говорю я. — Хранитель отдела млекопитающих в Австралийском музее классифицирует динго как Canis familiaris, разновидность dingo — то есть обыкновенной собаки. Другой известный специалист считает маловероятным сам факт, что динго ведет свое происхождение от северного волка.
— Ну уж нет, волка я по виду отличу, — заявляет этот жирный коротышка, — и мне наплевать, что болтают всякие длинноволосые профессора. Я-то сам вырос в лесу.
Жена моя Марта говорит, что порой я бываю несносным — особенно если меня вывести из себя. Я, еле сдерживаясь, говорю:
— Ну, а что касается ваших опасений, то они напрасны. Динго на вас не бросится — пока он смотрит на вас как на гамма-животное. Разумеется, до тех пор, пока вы ведете себя как гамма-животное.
Мне вдруг показалось, что он вот-вот перелезет через дощатый забор и кинется на меня с кулаками.
— Вы кого, собственно, обзываете животным? Прошу поосторожней, — возмущается он. Его багровая физиономия и жилы на шее раздуваются, как у лягушки.
А это была всего-навсего цитата из Лоренца[7] которой я запустил в него. Был у меня такой период в жизни, когда я интересовался вопросами поведения животных.
— Я вовсе не обзываю вас животным, — говорю я. — Только объясняю, кем считает вас динго. На меня он смотрит как на альфа-животное, альфа — это греческая буква «А». Я в его понятии являюсь вожаком стаи. На мою жену Марту он смотрит как на бета-животное. Бета — это буква «Б», а гамма — «С». Ну а вот вы и ваша жена и дети для него, возможно, гамма- или дельта-животные. Дельта — это «Д». До тех пор пока вы ведете себя как гамма- или дельта-животное, с вами все будет о’кей. Динго будет с вами считаться.
Его, казалось, почти убедил этот аргумент — или, во всяком случае, сбил с толку.
— То, что вы сказали насчет гамма, — неуверенно произносит он, — вы сами верите этому?
— Я дам вам книгу, почитайте, — отвечаю я.
— Что ни говорите, у него достаточно мощные челюсти, — говорит он, указывая на Реда, который улегся у моих ног и не сводит с меня доверчивых глаз. Челюсти у него в самом деле мощные, а белые, будто отполированные клыки довольно-таки длинные. Голова, пожалуй, слишком крупна, а уши толстоваты у основания, чтобы Реда можно было назвать красавцем, а вот ладное рыжевато-коричневое тело и крепкие лапы были воплощением силы.
— Вовсе не мощнее, чем у немецкой овчарки, — говорю я.
На Мэншен-стрит есть две овчарки; конечно, утверждение несколько притянутое, но вполне сойдет.
— Возможно, — отвечает он явно с сомнением.