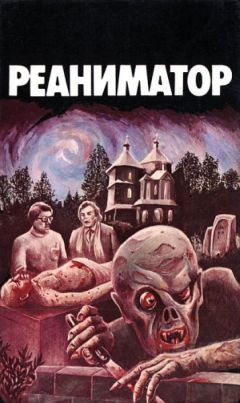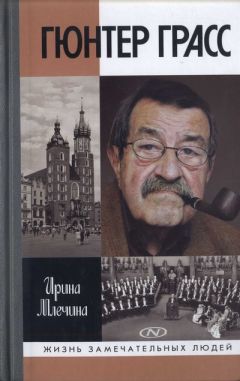Мне никаких отговорок на ум не пришло. Я позавтракал еще перед заутреней. Заповеди принимать причастие натощак я придерживался редко. К тому же не Шиллинг и не Хоттен Зоннтаг назвали Мальке «великим», это я сказал: «Великий Мальке», так что пришлось мне плыть за ним, только я не слишком торопился.
На мостках между дамской и семейной купальней едва не разыгрался скандал, так как Тулла Покрифке захотела плыть со мной. Кожа да кости, она сидела на перилах. Которое лето все тот же штопаный-перештопаный детский купальник, стиснувший едва наметившиеся грудки, впившийся в ляжки, складка разлохматившейся между ног ткани повторяла разрез промежности. Она ругалась, морща нос и топыря пальцы ног. Хоттен Зоннтаг шепнул ей на ушко словечко, и взамен какого-то обещанного подарка Тулла отказалась от своей затеи, но тут четверо-пятеро девятиклассников, неплохих пловцов, которых я уже видел на посудине, направились туда, хотя и не признались в этом, а заявили: «Прошвырнемся на пирс или еще куда-нибудь». Однако Хоттен Зоннтаг выручил меня, пригрозив: «Кто за ним увяжется, получит по яйцам!»
Прыгнув ласточкой с пирса, я поплыл не спеша, иногда переворачиваясь на спину. Пока я плыл и теперь, когда пишу, я старался и стараюсь думать о Тулле Покрифке, потому что не хотел и не хочу все время думать только о Мальке. Поэтому я плыл на спине, поэтому пишу: плыл на спине. Только так я мог и могу видеть, как Тулла Покрифке, кожа да кости, сидит на перилах в трикотажном шерстяном купальнике мышиного цвета и постепенно становится все меньше, но все сильнее сводит с ума и смотреть на нее все больнее. Она была для нас как заноза в теле, однако когда я миновал вторую отмель, Туллу словно ветром сдуло — ни точки, ни занозы, ни дырки, я уже не уплывал от Туллы, я плыл к Мальке; пишу: плыл навстречу тебе. Плыл брассом и не торопился.
Между двумя взмахами рук пишу — ведь вода сама держит: это было последнее воскресенье перед большими каникулами. Что тогда происходило? Крым взят, Роммель опять наступает в Северной Африке. После Пасхи мы перешли в десятый. Эш и Хоттен Зоннтаг подали заявление с просьбой зачислить их добровольцами в военно-воздушные силы, однако позднее их, как и меня — а я все тянул, то хотел на флот, то не хотел, — взяли в мотопехоту, что лишь немного получше обычной пехоты. Мальке не желал идти добровольцем, оставаясь, как всегда, исключением, говорил: «Чокнутые!» А ведь он был старше нас на год, то есть имел отличную возможность выскочить из школы раньше нас; но кто пишет, не должен забегать вперед.
Последние двести метров я проплыл на спине еще медленнее, не переходя на брасс, чтобы не сбить дыхание. Великий Мальке сидел, как обычно, в тени нактоуза. Солнце падало лишь на его колени. Судя по всему, он уже побывал внизу. Слабый ветерок вместе с мелкой зыбью нес навстречу мне булькающие финальные такты какой-то увертюры. Он любил подобные эффекты: нырнув в радиорубку, он крутил там заводную ручку граммофона, ставил пластинку, после чего вылезал на палубу с прямым пробором, с которого стекала вода, садился в тень и слушал музыку, пока чайки, кружась над посудиной, своими криками свидетельствовали о том, что веруют в переселение душ.
Нет, покуда не поздно, лучше еще раз перевернуться на спину, чтобы увидеть большие облака, похожие на набитые картошкой мешки, которые с неизменной размеренностью шествовали над нашей посудиной на юго-восток, благодаря чему возникала игра светотени и нас время от времени — на минуты, когда появлялось новое облако, — освежала прохлада. Никогда потом — если не считать выставки «Дети наших прихожан рисуют лето», устроенной года два назад отцом Альбаном с моей помощью в Кольпинговом доме, — я не видел таких красивых, таких белоснежных облаков, похожих на набитые картошкой мешки. Поэтому, пока я еще не ухватился за гнутые ржавые поручни нашей посудины, встает все тот же вопрос: «Почему именно я?» Почему не Хоттен Зоннтаг или Шиллинг? Ведь можно же было послать на посудину девятиклассников вместе с Туллой, тем более что они бегали за этой худышкой, особенно один из них, который был вроде бы ее родственником: все называли его кузеном Туллы. Но я поплыл один, оставив Шиллинга присматривать, чтобы никто не увязался за мной, и не слишком спешил.
Я, Пиленц — мое имя не имеет значения[32], — был раньше министрантом, хотел стать бог знает кем, а теперь работаю секретарем в Кольпинговом доме, да и до сих пор не могу отказаться от прежней мороки, читаю Блуа[33], гностиков, Бёлля, Фридриха Геера[34], нередко обращаюсь к «Исповеди» старого доброго Августина, которая производит на меня сильное впечатление, ночами напролет дискутирую за крепким чаем с отцом Альбаном, открытым и не слишком религиозным францисканцем, о крови Христовой, о Троице, о таинстве благодати, рассказываю ему о Мальке и его Деве Марии, о его кадыке и тетке, о его прямом проборе, сахарной воде, граммофоне, белой сове, отвертке, шерстяных «бомбошках», фосфоресцирующих пуговицах, о кошке и мышке и моей к тому причастности, о том, как Великий Мальке сидел на посудине, а я не спеша плыл к нему то на спине, то брассом; ведь только я был его другом, если с Мальке вообще можно было дружить. Но я старался. Нет, старанием это не назовешь. Получалось само собой, что я таскался за ним и его меняющимися подвесками. Если бы Мальке сказал: «Сделай то-то!», я бы сделал это, и даже больше. Но Мальке ничего не говорил, без слов или иных знаков позволяя ходить за ним, а ведь мне приходилось совершать немалый крюк, чтобы подхватить его на Остерцайле и вместе идти в школу. Когда он завел моду на «бомбошки», я первым стал его последователем. Некоторое время я даже носил на шнурке отвертку, но только дома. А если я, утратив веру и все предпосылки для нее, все-таки продолжал помогать в качестве министранта его преподобию отцу Гусевскому, то лишь затем, чтобы во время причастия пялиться на кадык Мальке. Когда Великий Мальке после пасхальных каникул сорок второго года — в Тихом океане происходили сражения между авианосцами — впервые побрился, я двумя днями позднее также принялся скоблить подбородок, хотя никакой растительности там даже не намечалось. Если бы после выступления командира подлодки Мальке сказал: «Пиленц, стырь у него железяку!», я бы снял с крючка штуковину на черно-красно-белой ленте и спрятал ее для тебя.
Но Мальке сам все обстряпал; он сидел в тени на мостике, слушая глухие финальные аккорды своей подводной оперы «Сельская честь»; вверху чайки, внизу море — на рейде два здоровенных фрахтера — бегущие тени облаков — курсом на Путциг пошли торпедные катера, шесть бурунов перед носами, с ними рыбацкий сейнер — музыка на посудине затихает, я плыву медленным брассом, смотрю перед собой, в сторону, в просвет между остатков вентиляционных труб — сколько их, собственно, было? — вижу, прежде чем ухватиться за ржавое железо, тебя: Великий Мальке неподвижно сидит в тени, пластинку в рубке заело на полюбившемся ей месте, она заикается, чайки взмывают вверх, а у тебя на горле — железяка на ленте.
Выглядел он забавно, потому что ничего другого на нем не было. Он сидел в тени голый, костлявый, как всегда обгорелый. Только колени освещены ярким солнцем. Длинный член полустоит, яйца лежат на ржавом железе. Ладони подложены под коленные сгибы. Над ушами космами повисли волосы, разглаженные на прямой пробор. Лицо — лик Спасителя, а под ним, на ладонь ниже ключиц — неподвижная, большая, очень большая железяка в качестве единственного предмета одежды.
Адамово яблоко, которое, как я всегда предполагал, служило для Мальке одновременно мотором и тормозом — хотя были у него и запасные двигатели, — впервые обрело надежный противовес. Оно тихо дремало под кожей, не шевелясь, ибо та вещь, которая его успокоила и уравновесила, имела свою предысторию: создал ее еще в тысяча восемьсот тринадцатом году, когда давали «золото — за железо», старина Шинкель, классицист с отменным чувством формы; небольшие изменения последовали в тысяча восемьсот семьдесят седьмом, с тысяча девятьсот четырнадцатого по восемнадцатый и теперь. Тут не было ничего общего с орденом «Pour le Mérite»[35], возникшим на основе мальтийского креста, хотя детище Шинкеля впервые перекочевало с груди на шею, продекларировав симметрию в качестве своего кредо.
«А, Пиленц! Отличная штука, не правда ли?»
«Здорово, дай потрогать».
«Честно заработано, разве нет?»
«Я так и думал, что это ты его стырил».
«Ничего не стырил! Награжден вчера за то, что я лично потопил пять транспортов из каравана на Мурманск да еще крейсер класса „Саутгемптон“».
Мы начали паясничать, демонстрируя веселое настроение, прогорланили все строфы «Матросской песни», выдумывали новые куплеты, речь в которых шла о том, как мы долбали своими торпедами не танкеры или войсковые транспорты, а девчонок или училок из школы Гудрун, произносили в сложенные рупором ладони экстренные сообщения частично со скабрезностями, частично с фантастическими цифрами затопленных нами судов, барабанили пятками и кулаками по палубе: она гудела, дребезжала, от нее отлетал чаячий помет; вернулись чайки, пришли обратно торпедные катера, над нами плыли красивые белые облака, на горизонте поднимались дымки приходящих и уходящих судов, счастье, мерцание воды, тишь, даже рыбка из воды не выскочит, хотя железяка подрагивала, но не из-за кадыка, а оттого что Мальке был так оживлен, даже впервые немного дурашлив, лика Спасителя нет и в помине, просто чуточку озорует; сняв железяку с шеи, он манерным жестом приложил концы ленты к бедрам и, забавно изображая движениями ног, плеч, поворотом головы девчонку, не какую-то определенную, а девчонку вообще, принялся раскачивать над членом и яйцами большую железяку, прикрывавшую их едва на треть. Я же, поскольку его клоунада начала действовать мне на нервы, спросил, не собирается ли он оставить эту штуковину себе, и сказал, что лучше спрятать ее под палубой в рубке, между белой совой, граммофоном и Пилсудским.