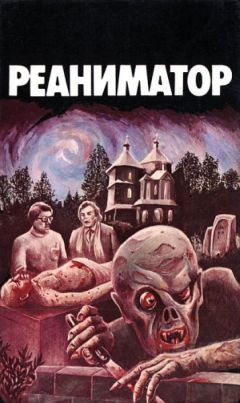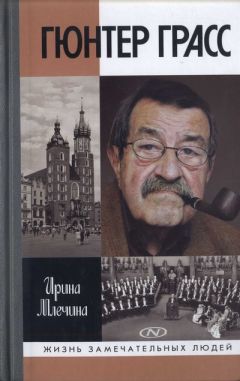У Великого Мальке имелись другие планы, и он их исполнил. Ведь если бы Мальке спрятал железяку под палубой, или лучше, если бы я никогда не дружил с Мальке, а еще лучше, и то и другое вместе: железяка прячется в радиорубке, меня же Мальке интересует просто из любопытства, потому что мы одноклассники — тогда мне не пришлось бы теперь писать, не пришлось бы говорить отцу Альбану: «Это я виноват, что Мальке…» Но я пишу, чтобы избавиться от бремени. Конечно, приятно заниматься словесной эквилибристикой на чистом листе бумаги — но чем тут помогут белые облака, дымки, точно вовремя возвращающиеся торпедные катера и стая чаек, выступающая в роли греческого хора? Зачем все эти грамматические изыски, попытки отказаться от заглавной буквы, обходиться без знаков препинания? Ведь я все равно вынужден сказать: Мальке не стал прятать железяку в радиорубке бывшего польского тральщика «Рыбитва», не повесил ее между маршалом Пилсудским и черной мадонной над смертельно больным граммофоном и загнивающей белой совой, он лишь на полчаса, пока я считал чаек, спустился с железякой вниз, чтобы — я в этом уверен — похвалиться высокой наградой Деве Марии, после чего вновь извлек орден на белый свет через люк носового отсека, напялил плавки на свои причиндалы, и мы размеренным темпом поплыли назад к купальне, где он, зажав железяку в кулаке, пронес ее мимо Шиллинга, Хоттена Зоннтага, Туллы Покрифке и девятиклассников в свою кабинку в мужском отделении.
Отделавшись немногословной полуправдой от Туллы и ее свиты, я кинулся в мою кабинку, быстро переоделся и нагнал Мальке на остановке «девятки». Пока мы ехали, я старался уговорить его если уж не переслать по почте орден капитан-лейтенанту, адрес которого нетрудно найти, то хотя бы вернуть ему лично.
По-моему, он меня не слушал. Мы стояли на задней площадке вагона, зажатые среди других пассажиров. Обычная давка середины воскресного дня. На ходу трамвая от одной остановки до другой Мальке раскрывал ладонь между своей и моей рубашкой, и мы оба смотрели вниз на строгий темный металл с еще влажной мятой ленточкой. Когда мы проезжали поместье Заспе, Мальке, не повязывая ленточку, примерил орден к узлу своего галстука и попытался разглядеть себя в вагонном окне, используя его в качестве зеркала. Пока трамвай стоял на стрелке, поджидая встречный, я старался отвести взгляд мимо уха Мальке, мимо пришедшего в упадок кладбища Заспе, мимо кривых береговых сосен к аэродрому; мне повезло — выручил медленно совершавший посадку большой трехмоторный бомбардировщик «Юнкерс-52».
Воскресной трамвайной публике было не до представления, которое устроил Мальке. Ее внимание поглощалось борьбой с послепляжной усталостью, с капризами детей, с громоздкими узлами купальных халатов — борьба эта громогласно велась поверх скамеек. Поднимающийся, нарастающий, затихающий и переходящий в дремотное хныканье детский скулеж прокатывался волнами по вагону от передней площадки к задней и обратно, а вместе с ним перемещались запахи, от которых скисло бы любое молоко.
Мы вышли на конечной остановке Брунсхефервег, где Мальке сказал мне через плечо, что намерен нарушить послеполуденный покой оберштудиенрата Вольдемара Клозе; он собирается идти один, ждать его быссмысленно.
Клозе проживал, как мы знали, на Баумбахаллее. Я проводил Великого Мальке через облицованный кафелем подземный переход под рельсами, дальше он пошел один — не спеша, двигаясь как бы треугольным зигзагом. В левой руке он держал зажатые большим и указательным пальцем концы ленточки, раскручивая орден, превратившийся в пропеллер и двигатель, который увлекал Мальке на Баумбахаллее.
Будь проклят тот план и его исполнение. Лучше бы ты запустил железяку на верхушку липы: ведь в тенистом квартале вилл обитает достаточно сорок, которые подхватили бы ее, чтобы присовокупить в тайном хранилище к серебряным ложечкам, кольцам, брошкам и прочим сокровищам.
В понедельник Мальке отсутствовал. По классу пошли слухи. Штудиенрат Брунис вел урок немецкого. Он опять сосал витаминные таблетки, которые должен был раздать ученикам. На кафедре лежал раскрытый томик Эйхендорфа. Старческое бормотание казалось сладким, липким. Сначала несколько страниц из «Жизни одного бездельника», потом «Мельничное колесо», «Перстенек», «Музыканты», «Два дюжих подмастерья», «Серна, что других милее», «В них песня таится», «Теплый воздух синевы». Про Мальке — ни слова.
Лишь во вторник в классе появился оберштудиенрат Клозе с серым скоросшивателем; встав возле штудиенрата Эрдманна — тот растерянно потирал руки, — он, источая мятный холодок изо рта, начал вещать поверх наших голов: произошло нечто неслыханное, и это в судьбоносные времена, когда необходима сплоченность. Ваш одноклассник — фамилию Клозе не назвал — был еще вчера исключен из учебного заведения. Принято решение воздержаться от передачи дела в инстанции, например, в окружное управление гитлерюгенда. Всем ученикам надлежит хранить о данном происшествии молчание, как это подобает мужчинам, и необходимо ответить на позорный поступок достойным поведением, как того требует дух нашей гимназии. Таково желание вашего бывшего соученика, капитан-лейтенанта, командира подводной лодки, кавалера и так далее и тому подобное…
Мальке вылетел из гимназии, но поскольку во время войны никого по-настоящему не выгоняли, его перевели в школу Хорста Весселя. Там его историю также не стали предавать огласке.
Школа Хорста Весселя именовалась до войны реальной гимназией кронпринца Вильгельма; она, как и наша школа, пропахла пылью. Здание, построенное в тысяча девятьсот двенадцатом году, выглядело немного приветливее, чем наша кирпичная громадина; находилось оно в южной части предместья, у подножия холма с Йешкентальским лесом; словом, когда осенью начались учебные занятия, дорога в школу, по которой ходил Мальке, уже нигде не пересекалась с моим маршрутом.
На время летних каникул он тоже пропал — лето без Мальке; говорили, он сам захотел попасть в военно-спортивный лагерь с курсами для радистов. Его обгорелой на солнце спины не видели ни в Брезене, ни в купальне Глетткау. Искать его в церкви Девы Марии стало бессмысленно, поэтому его преподобию отцу Гусевскому пришлось на время каникул обходиться без самого надежного помощника, так как министрант Пиленц сказал себе: «Что за месса без Мальке?»
Оставшись без него, мы иногда наведывались на посудину, но особой радости это не доставляло. Хоттен Зоннтаг тщетно пытался найти вход в радиорубку. Среди девятиклассников возникали все новые слухи о потрясающе оборудованной рубке под мостиком. Паренек с узко посаженными глазами, которого салаги преданно именовали Штертебеккером[36], без устали нырял в люк. Раз-другой на посудину приплывал довольно тщедушный кузен Туллы Покрифке, но он никогда не нырял. Мысленно или вслух я пробовал завести с ним разговор о Тулле; она интересовала меня. Но она, видно, как и меня, зачаровала собственного кузена — только как? — своим разлохматившимся шерстяным купальником, неистребимым запахом столярного клея. «Не ваше собачье дело!» — отвечал мне кузен или мог бы ответить.
Тулла на посудине не появлялась, она предпочитала купальню, однако с Хоттеном Зоннтагом уже было покончено. Пару раз я ходил с ней в кино, но на большее мне не везло: в кино она ходила с любым. Говорят, она втюрилась в того самого Штертебеккера, причем безответно, поскольку Штертебеккер присох к нашей посудине, где искал вход в радиорубку. К концу летних каникул ребята перешептывались о том, что его поиски якобы оказались удачными. Но доказательства отсутствовали: он не предъявил ни разъеденной пластинки, ни заплесневелой белой совы. Однако слух держался, поэтому когда через два с половиной года была арестована таинственная подростковая банда под предводительством Штертебеккера, на процессе вроде бы опять упоминалась наша посудина и тайник под палубными надстройками. Но на ту пору я уже был в армии, новости узнавал лишь отрывочно из душеспасительных или дружеских писем, которые до самого конца, пока почта еще действовала, посылал мне его преподобие отец Гусевский. В одном из последних январских писем сорок пятого — русские войска уже прорвались к Эльбингу — говорилось что-то о святотатственном нападении так называемой банды «чистильщиков» на церковь Сердца Христова[37], где служил его преподобие отец Винке. Штертебеккер назывался в письме настоящей фамилией; а еще я, кажется, прочитал в том письме о трехлетием малыше, который стал для банды своего рода оберегом или талисманом. Я то уверен, то сомневаюсь, что в последнем или предпоследнем письме Гусевского — связка писем вместе с дневником и вещевым мешком пропала под Коттбусом — говорилось о нашей посудине, пережившей в канун летних каникул сорок второго года свой великий день, чей блеск, однако, как-то померк во время самих каникул; у меня до сих пор остался в памяти горький привкус этого лета, когда не было Мальке. Что за лето без Мальке?!