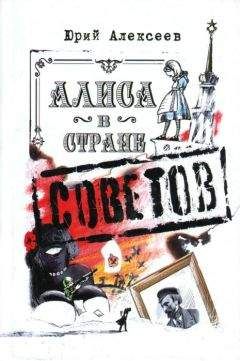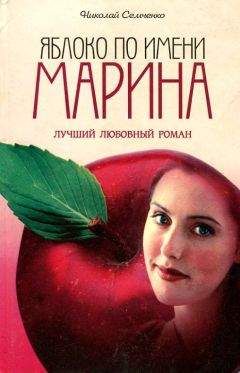Оробевшие не пойми с чего лётчики проводили мальчика почтительным безмолвием.
— Учитесь, Чанов! — надломил паузу в учительском тоне Иван. — Вы бы наверняка поднос уронили, состроили вид, мол, шнурки развязались, чтобы всё разглазеть, а может и пальцем потрогать.
Пришибленный Чанов смолчал, а Славушкин глаза закатил и брякнул:
— Европа!
— А у нас что, хуже? — скандально очнулся Чанов. — Меня вон тоже в женскую баню водили, пока до пупа не вырос.
— Оно и видно, — окоротил Кузин. — Сказалось по всем статьям.
Под салфеткой «Гавана-Ривьера» оказались слоёные, тёплые сандвичи с ветчиной, сыром и, что до слёз умилительно, с языками солёненького огурчика, порезанного по-здешнему не поперёк, а вдоль.
Огурчик, естественно, поманил вернуться к оставленному в номерах. Похватав сандвичи и подруг, лётчики разбежались по «хатам». Время сбора было назначено через час, поскольку за окнами стало светать, а вернуться в казарму до третьего петуха — святое дело для офицера.
Иван понимал, что всё несколько через пень колоду вышло. Топорно, будто они на выходной из голодной деревни вырвались, заспешили побезобразничать — гуляй, скопом, чтоб городские не тронули! И всё же, переступив неловкость, Марту спросил:
— Que tal? Que te malesta?[23]
Марта чадрой спустила волосы на лицо и дерзко запричитала:
— Maldichos lancheros!.. Me todavia falta doscien-tos dolares para huir a Miami. Muchisimos rusos ya se desembarcan… Quen les llamaba? Nos van poner debajo de una manta de cien metros у de gratis, de gratis!.. No tengo ningun deseo manejar un tractor. Tampoco quero infilar me al koljos. Si, sefior! Tampoco me gusta su peli-grosa promesa: «Mariana todo sera de gratis!»[24].
Иван оказался в раздвоенности. Разумеется, он Марте мог вполне втолковать, что когда наступает коллективизация, то не то что на стометровое, и на короткое одеяло средств не хватает, как и недостаёт потрёпанных сил на попутные удовольствия. Перспективу очутиться вместо постели на тракторе Ивану было потрудней отмести. Резон «За рычаги сажают достойнейших» мог Марту унизить. Зато угрозное обещание «Завтра всё будет бесплатно!» — ему не стоило никакого труда разбить, сославшись на опыт отечества. Но в том и загвоздка, что называть своё подданство Ивану категорически запрещалось. Секретность опять шла во вред великой стране, и обладателю тайны не оставалось ничего другого, как молча почёсывать голову в ожидании третьих петухов.
Чесаться, искать маскировочно блох Иван не привык и потому пошёл на иное.
«Как знать, придётся ли ещё раз? — подтолкнул он себя. — Когда рядом ютятся «земля-воздух» и «Куба» значит, как назло, «бочка», поневоле себя ощущаешь между небом и бренной землей». И навалился на Марту.
Сполна насытившись, он поколебался немного и отчинил Марте остатки долларов, подумав зачем-то: «Я, будто кандальный узник, передаю напильник товарищу…».
Марта смятенно скомкала денежки и прожурчала:
— Tu quieres algo mas? Estoy lista a todo.[25]
— Otra vez. En Miami[26], — отшутился Иван и попросил Марту вызвать такси к отелю.
На выходе Ивана ждали покинутые товарищи. Девочки уже упрыгали отдыхать. С моря тянуло прохладой. Зеленоватые волны тихо ластились к Мале-кону. На берегу стоял одинокий негр с удочкой, а чуть поодаль в расхруст потягивался, сыто играл хвостом усталый Мурзик, кольцами пепельный, будто сорвался с трубы.
Был тот утренний час котов, когда по крышам с подругой набегавшись, даже рыбы не хочется, Меланхолия. И предчувствие камня, каким тебя за подвиги угостят. И опасение это «зачем-то» людям передается. Не всем, конечно, а подневольным, кого дома каверзно ждут.
В мучительном предощущении друзья погрузились в такси и поехали в «Колли» молча. Всех тяготило: не спохватились ли, не застукали? И хорошо неуёмный Чанов ступор подразрядил — достал бумажку с каракулями, пошевелил губами и как-то победоносно выпалил:
— Сой каброн! Сой миердаперро!.. Ну как, Иван? Хорошо я по-здешнему трекаю?
— Исключительно замечательно, — рассмеялся Иван.
— А зачем скалишься? — заподозрил Чанов. — Я что, не так сказал?
— Ты сказал: я — козёл, я — говно собачье, — перевёл Иван.
— Да брось! — смутился задетый общим хохотом Чанов. — А я ещё жени… Вот сука, нет чтобы хорошему научить!
— Хорошее к тебе не пристанет, — слезясь, вымолвил Кузин. — Ну, молодец, Чанов, повеселил! Дай слова списать, чтоб не забылось.
С подначками обсуждая чановское «приданое» и бегство Славушкина из-под венца, подъехали к особняку, где подмигнули услужливому часовому и, прикрыв рты, на цыпочках вползли в разгромленную, прокисшую от сигар гостиную.
Недавний вещун не зря в душах скрёбся. «Верный ленинец» уже не спал, не дремал. Переместился из ванной, смахнул со стола лишнее и восседал напряжённой струной, положив сжатые кулаки на крышку. И сразу аромат тропиков испарился, и повеяло чем-то до боли родным, разве что портрета над головой допытчика не хватало и переходящего углового знамени «Победителю» там чего-нибудь.
— Ну-ну, рассказывайте, где были, что поделывали? — скрипучим голосом проговорил Мёрзлый и, чтобы по морде сразу не схлопотать, умно добавил: — Мне это вовсе не интересно, а вот другим… Так где же?
— В кустах… в кустиках, дорогой Пётр Пахомович; — пропел, будто тенор-альтино, Иван. — Разве из личного опыта вам это не известно?
Мёрзлого так и подбросило. Со зла обнаглев, он подскочил к приключенцам и стал к ним хищно и с отвращением принюхиваться, будто постылая жёнушка, которой духи никогда не дарят.
— Это цветы на кустах здесь такие терпкие, — в момент раскусил приставалу Кузин. — Ну чтоб запах этого самого, подскажи, Чанов, напрочь отбить…
— Миердыперды! — подсказал памятливый Чанов и, неуместно покосившись на Мёрзлого, по-простоте добавил: — Да и «каброны», когда им за тридцать, тоже не «Красный мак» с похмелюги…
— Так-так, вот мы уже и слов нахватались, — зацепился Мёрзлый. — Есть чем порадовать генерала. Только вот где? От кого набрались? — спросит командование. И хорошо, если только слов… Девицы-то тут с червоточиной, все с гнильцой, можно сказать.
— Зачем же сразу пугать? — не удержался Славушкин.
— Я не пугаю, — хихикнул Мёрзлый. — Предупреждаю. Хотя и поздно.
— Лечиться никогда не поздно, — знающе брякнул Чанов. — Нет, это я так, чисто теоретически, чтобы Славушкин свой мандраж унял.
Разговор принимал явно невыгодную для ходоков окраску. И, взяв допытчика слегка за грудки, Иван сказал ласково и внушительно:
— Меньше пить надо, Пётр Пахомович!.. Тогда и домыслов лишних не будет, и не захочется беспокоить командование… алкаш!
— Позвольте!! Но вы же меня насильно! Под страхом «тёмной», — встревоженно запыхтел Мёрзлый.
Иван ничего не ответил. Он знал: ничто так не пугает согражданина, как нечто недоговорённое. И со словами: «Спать, спать, утро вечера мудренее!» — развёл друзей по спальным комнатам, в одной из которых метался, мучился в сновидениях оставленный на бобах Толякин.
— А… а сигарет принесли? — спросил он сквозь дрёму.
— Закрыто на учёт, — сказал Иван и пал снопом на кровать.
Наутро… Но нужно ли объяснять, земляки, что бывает после эдакого наутро?
«Человек, способный опохмелиться кефиром, не может любить Родину», — как объяснил Ивану значительно позже Виктор-Справка — человек с просроченным паспортом.
А лётчики обожали Родину, где бы они ни находились.
Обеспечитель наземной службы Славушкин метался по взлётно-посадочной полосе беззвучно и бестолково, будто лесничий в «Жизели», и на его прыгучие па с недоумением поглядывал генерал Лексютин. Сопровождавшие генерала Иван и Кузин тайком перемигивались и делали вид, что танец Славушкина им вовсе не интересен.
Шёл сорок первый день их мирной, мало чем примечательной службы на острове, и лётной команде пора было показать, на что они в настоящем бою горазды.
Гвоздём показа был Кузин, затянутый лямками надувного, негожего для пеших атак костюма, делавшего майора похожим на стоячую черепаху. Именно для него на раскалённую дневным солнцем полосу вытащили поржавелые самолёты американской выделки и катили к ним по бетонке тяжёлые бочки с бензином, на которых пляшущий Славушкин и радел с запозданием написать мелом «спирт».
Разгадать смысл этих расчитанных на Лексютина упражнений для Ивана и Кузина было несложно. После ночного похода «за сигаретами» спиртное из дома вымели, рояль убрали, а сам квартет, выждав три дня, тщательно освидетельствовали в санчасти. И хотя, к огорчению Мёрзлого, положительных, омрачающих честь результатов не обнаружилось, и ободрённые господа офицеры упрямо долдонили: «Никого не трогали, спали без задних ног!» — их всё же на всякий случай расформировали. Ивана и Кузина оставили в особняке под надзором Мёрзлого. Толякина вместе с платьем «Версаль» отправили в мафиозную глушь — Сантьяго-де-Куба. А Чанов и Славушкин жили теперь в захолустном Антигуа — впритык к авиабазе и на казарменном положении, вроде бы, что не вредило им предаваться страстям, подстёгнутым дешевизной жизни в провинции. Отсутствие толмача им не мешало. Способный к языкам Чанов самонауком затвердил слов пятнадцать-двадцать, что для любой самоволки достаточно, и с таким запасом — и это при том что «ш» в испанском, хоть режь, не выговаривается — ухитрился отыскать в бардаке сродственницу Пушкина. Да, да, Александра Сергеевича[27]. А тюха-тюхой Славушкин пошёл ещё дальше. Аннулировав фамильное «ш», он окрестил себя по-здешнему Сальвадором, по-чёрному присосался к сигарам фуэртес, а по выходным дням носил батрацкую, в каких тростник рубят, шляпу и лопал, как проклятый, жареные на масле бананы. За невзыскательность и добрый нрав он получил даже, как утверждали, не только расположение, но и кредит у немилосердной дуэньи конвейерного заведения Антигуа. Стал своим в доску, окубинился.