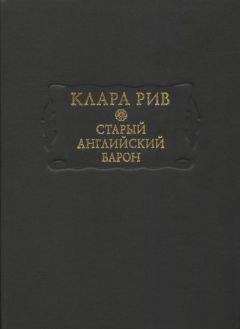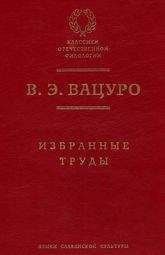Хотя из своего окна я не мог разглядеть их лиц как следует, мне все же показалось, что новая группа гораздо представительнее, чем прошлогодние гости, может быть, это и были настоящие хозяева. У меня не было особых причин их бояться, но на всякий случай я решил переждать, не выдавая своего присутствия. Проследив за тем, как группа потянулась к входу во дворец, я вскоре услышал топот внутри здания — очевидно, дед Йордан расселял их по комнатам. И опять принялся за чтение, зная, что старик при первой же возможности подскажет мне, как себя вести с незнакомцами. Но он долго не появлялся.
Снова выглянув в окно, я увидел, как двое мужчин разгружают вертолет и носят во дворец какие-то сумки.
Топот множества ног внизу продолжался, потом послышались звуки музыки, слава богу, более терпимой, чем та, у прошлых варягов.
Дед Йордан появился, лишь когда стемнело — позвать на ужин. Мы, как обычно, поужинали. Я ничего не спрашивал у стариков о вновь прибывших (они тоже ничего мне не объяснили), а потом ушел к себе. По дороге мне никто не встретился, явно старик устроил гостей на первом этаже, оттуда доносились приглушенные звуки музыки и людской говор. Немного почитав в кровати, я уснул.
Рано утром следующего дня (на улице было еще совсем темно) меня разбудил дед Йордан и жестами объяснил, что группа собралась на охоту, звал и меня. Я отказался, и старик ушел, а вскоре баба Ивана принесла мне завтрак. Я так и не смог заснуть снова, время от времени поглядывая в окно, где в свете наступающего дня группа охотников готовилась к выходу. Почти все мужчины были в новых охотничьих костюмах, с ружьями, остальные, в том числе и женщины, надели на себя все военное (я не понял — привезли они это с собой или форму им выдал дед Йордан). В сущности, охотничьи двустволки были лишь у троих, остальные держали в руках автоматы (очевидно, их тоже привезли с собой). Наконец, группа закончила свои сборы и тронулась в путь. Мне показалось странным, что они не пожелали взять с собой деда Йордана, который явно приготовился идти с ними. Он был не в обычном своем коротком кожушке, а в новеньком, с иголочки, военном полушубке, извлеченном, наверное, из наших бездонных складов, и даже с охотничьим ружьем на плече, которого я не видел у него ни раньше, ни потом. Старик прошел немного вместе с ними на юго-запад, куда они направлялись, но прежде чем группа скрылась за деревьями, я увидел, как военный машет старику руками, очевидно отправляя его назад.
И старик вернулся.
А группа затерялась в серой пелене, окутавшей лес.
Довольно скоро утренний туман рассеялся, и небо засияло, освещенное солнцем, еще скрытым от меня деревьями под окном.
Однако прекрасный зимний день почему-то не слишком радовал меня — в отличие от других солнечных дней, всегда расслаблявших и успокаивавших мою душу. Никого из приехавших я раньше не встречал, но неясная тревога почему-то сжимала мое сердце. Я не пошел на свою обычную утреннюю прогулку, пробовал читать, несколько раз заходил к бабе Иване (дед Йордан куда-то исчез). И хотя мы с ней совсем не говорили о приезжих, она тоже показалась мне не такой спокойной, как обычно.
Где-то к обеду в хрустально-звонком воздухе раздались звуки выстрелов: несколько одиночных, а потом — длинные автоматные очереди.
Охотники вернулись, когда короткий зимний день близился к концу. После обеда я пошел к себе, опять пытался читать, но безуспешно, никак не мог сосредоточиться, незнакомые пришельцы нарушили покой, царивший в этой долине, и самим своим присутствием словно разрушили его обычный мирный ритм. Потом я незаметно уснул, а проснулся, когда в моей комнате было почти темно. День за окном посерел, и небо снова затянуло облаками. Не столько шум, сколько какая-то непонятная дрожь заставила меня подойти к окну.
И я их увидел.
Они появлялись один за другим, с интервалом метров в десять. Выходили из леса, уже поглощаемого вечерней мглой — сначала один с мешком за спиной, потом три женщины, а за ними — и все остальные мужчины. На длинных жердях, тяжело провисающих с плеч, они несли убитых животных.
Подойдя к площадке перед дворцом, они опустили на землю две туши и засуетились вокруг них.
Какое-то время, пока группа разбрелась, убитые животные оставались лежать на снегу одни, и я их увидел — то, что покрупнее, оказалось большим старым оленем с огромными ветвистыми рогами, а поменьше — серной. Скоро люди вернулись, и я понял, что они ходили за орудиями для разделки туш. Двое шли с топорами. Все сгрудились вокруг убитых животных, а потом эти мясники топорами стали рубить голову оленя.
Волна ненависти и омерзения залила меня, я не хотел больше этого видеть и, отвернувшись от окна, в тупом оцепенении бросился ничком на кровать. Но не мог выбросить из головы вида лежащих на снегу мертвых животных — оленя с еще связанными ногами, нелепо упершегося в землю своими большими рогами. Как живой, он повернул чуть приподнятую рогами голову и смотрел в сторону поникшей, почти незаметной в снегу головки серны.
Эта картина закачалась у меня перед глазами, я чуть не задохнулся от кома в груди, почти рыданья, но какой-то шум снаружи привел меня в чувство, и я снова подошел к окну.
На улице почти совсем стемнело, фигуры людей и темные пятна животных были почти неразличимыми. Голова оленя с прекрасными большими рогами, уже отрубленная, валялась в стороне, но, и забытая всеми, она как будто продолжала в оцепенении смотреть на разворачивающуюся перед ней кровавую оргию.
Группа озверевших людей нашла себе новую забаву. Сначала я не понял, в чем дело. Двое мужчин держали в руках зажженные факелы, от которых во все стороны брызгами разлетались искры. Двое других пытались вытащить из брезентового мешка что-то, бешено сопротивляющееся. Когда они все же вытянули оттуда брыкающееся и визжащее нечто, я увидел, что это живой, но раненый кабан. Один из мужчин плеснул на него чем-то из металлической канистры. И лишь когда мечущееся животное, к которому прикоснулись факелы, превратилось в катающийся по снегу и истошно голосящий живой факел, я понял, что сделали эти дикари — они облили кабана бензином и подожгли, и он, как огненный шар, корчился теперь на снегу в предсмертной агонии.
Дикий хохот и крики людей, развлекающихся огненным танцем обезумевшего животного, их освещенные пламенем и искривленные гримасами лица слились в каком-то зловещем, гротескном действе. Острая конвульсия внутри заставила меня резко отшатнуться от окна, я бросился куда-то бежать, но прежде чем осознал, куда я бегу, мои внутренности взорвались, и изо рта полилась какая-то гадость, меня всего вывернуло наизнанку в рвоте.
А больше я ничего не помню.
Куда хотел бежать, куда смог добежать, какая болезненная судорога оборвала мою память, я не знаю, потому что потерял сознание.
Поздно ночью или рано утром я очнулся со странным чувством нереальности происходящего. Я был не у себя в комнате, а где-то в другом месте. Постепенно в мерцающем свете (это был огонек лампадки, всегда горящей у бабы Иваны) я увидел, что нахожусь у стариков. Дед Йордан сидел за столом и, заметив, что я очнулся, жестами успокоил меня. Немного полежав, я снова заснул, но уже более спокойным сном. А когда проснулся, в комнате было совсем светло, новый день наступил, и баба Ивана возилась у печки. Она принесла мне чашку чая, хлеб и брынзу, я попробовал есть лежа. И в это время снаружи раздался оглушительный грохот, который сначала заставил меня испуганно вздрогнуть. Это было как выстрел. Но потом я вспомнил все вчерашнее и догадался, что это ревут моторы вертолета. Отставив чашку, я с головой зарылся в одеяло и зажмурил глаза. Тон ревущих моторов изменился, и после нескольких новых, все более мощных и напористых звуковых волн шум слабеющих толчков начал стихать. Вертолет, очевидно, набирал высоту, потом стал удаляться, и, наконец, наступила тишина.
В комнату вернулся дед Йордан.
— Ну что, уехали? — спросила баба Ивана, но старик никак не отреагировал на этот излишний вопрос и опустился на стул.
Скоро и я встал с постели, сел за стол, мы, молча, поели — значит, я спал до самого обеда.
Потом старик проводил меня до дома, как больного, хотя я уже чувствовал себя гораздо лучше. Прежде чем лечь, я выглянул в окно — на снегу, утоптанном и грязном, темнели пятна крови убитых животных. На этот раз обошлось без рвоты, шок прошел, я был почти в порядке. И когда снова лег в кровать, глубоко задумался о том, что же все-таки произошло.
Честно говоря, у меня никогда не было какого-то особенного отношения к охоте. Я не раз видел, как убивают птиц, но это не производило на меня сильного впечатления, и я не воспринимал это как убийство. Я никогда не ел (или не помню этого) дичь, но не от отвращения к самому факту убийства животных, а потому, что запах дичи вообще мне неприятен. Но у меня не было отвращения к охоте, просто я был к ней равнодушен.