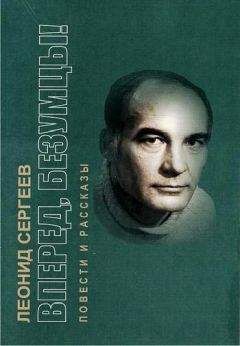По стечению обстоятельств вскоре в Канаде побывали Кондаков с Хлудовой. Они сообщили, что встретили «Русалку» — она работала в институте аналогичном нашему, но… уборщицей. Правда, уныния на ее лице супруги не заметили; больше того — она сообщила, что «готова голодать, но жить в цивилизованной стране, а не среди помоек».
А в лаборатории «ластоногих» работала полная, не очень молодая, но как девчонка восторженная, женщина, у которой было море обаяния: обаяние чисто внешнее, обаяние человеческое (в общении) и обаяние таланта — как научный сотрудник она плавала на «Витязе» и в ходе плавания сделала несколько важных открытий. Сотрудники меж собой звали толстушку беззлобно Медузой, имея в виду ее внешность, но никак не поведение и характер — именно поэтому многие, произнося Медуза, добавляли: «с острова вулканического происхождения». Медуза жила с дочерью-инвалидом в коммунальной квартире, но никогда ни на что не жаловалась и никто не видел ее мрачной. Наоборот, все замечали ее приветливость, внимательное отношение к сослуживцам.
Ко всему, у Медузы был еще один талант — она делала отличные шаржи на сотрудников института, они красовались в вестибюле под «моим» панно, и эта маленькая экспозиция притягивала к себе больше, чем гигантское панно, которое все же подавляло зрителей многочисленными плавающими тушами. Кстати, когда я «освежал» панно, никто иной, как Медуза консультировала меня и даже взбиралась на стремянку, подавая мне краски.
Однажды институт посетила делегация японских ученых и, пока шла беседа, Медуза сделала шаржи на представителей «страны восходящего солнца». Японцам так понравились рисунки, что позднее в дар институту она прислали капроновые сети, а лично Медузе — медаль и почетный диплом от своего общества шаржистов. Но самое неожиданное — руководитель делегации — миллионер прислал Медузе официальное предложение стать его женой.
Весь институт ликовал; некоторые уже планировали поездку в Японию на свадьбу, но Медуза в ответном письме деликатно и мягко отказала миллионеру и вскоре вышла замуж за электрика института, мужчину с золотыми руками, у которого тоже было море обаяния, правда, не такое большое, как у Медузы, но все же приличное — приблизительно с Онежское озеро — более красочного сравнения не подберу.
Николай Эпов работал в подвале с парусными сводами и множеством крохотных окон «бойниц». Эпов был знаменит тем, что в его квартире (над подвалом) росло единственное в Москве персиковое дерево.
В те далекие дни Эпов только что оформил спектакль «Маленькие трагедии», и был для меня почти что мифическим героем. Я страшно гордился дружбой с ним и каждому встречному раздувал его славу. И мечтал стать таким, как он, очутиться в театральном мире, но этот мир был для меня недосягаем. И вдруг после премьеры «трагедий», когда мы отмечали у Эпова столь важное событие, виновник торжества погладил персиковое дерево и полунебрежно сказал мне:
— В театре Вахтангова есть место бутафора. Чтобы тебе жилось приятней, пойдешь?
Моя мечта (работать в театре) сразу приобрела реальные очертанья. Я ухватился за случай и круто изменил свою жизнь.
Я вошел в театр как в храм, а когда очутился в бутафорском цехе, вообще потерял дар речи. Прямо надо мной, привязанные к потолку, висели пальмы, старинные кресла, драконы, облака, луна и солнце. Пахло клеем и свежей стружкой, из-за стола, обитого оцинкованным железом, выглядывал маленький очкарик, с лицом в сетке морщин, красноносый, с огромными оттопыренными ушами.
Очкарика звали Иван Тимофеевич Белозеров. Он двигался медленно, как ленивец, говорил вяло, растянуто, но слыл бутафором высочайшего класса, неистощимым выдумщиком и мечтателем. Он не выпускал из рук инструмента; работал слесарем и столяром, электриком и художником — делал все. Я даже не знаю, что он не мог сделать. Все, что проплывало надо мной, было сделано его руками. Простую бумагу Тимофеич превращал в яркие, сочные фрукты и тончайший китайский фарфор; проволоку и фольгу — в золотые подсвечники и люстры, стекляшки — в драгоценные бриллианты. Повторяю, он мог все. Зрители видели его творения: на сцене стреляли пушки, открывались ворота замков, у лошади-муляжа зажигались глаза и даже в лучах света проплывал парусник, лишая покоя мою морскую душу. Зрители видели все это, но мастера не видели никогда, для них он оставался невидимкой в театре, а мне посчастливилось с ним работать целый год.
С великой простотой, как бы между прочим и безадресно, Тимофеич научил меня разводить клейстер, обмазывать мешковину, наклеивать ее на «станки» (сосновые бруски и фанеру) — создавать «луга» и «деревья». Затем объяснил, как делать из картона чайные сервизы, а из бумаги деньги.
— Все должно быть как настоящее, — тихо говорил мастер. — Иначе актер не войдет в роль. Да и надо держать марку фирмы. Не зря ж к нам за помощью обращаются изо всех театров.
У Тимофеича было сильно развито чувство профессионального достоинства, но не настолько сильно, чтобы перейти в самодовольство; в общении с людьми он держался спокойно и просто. Наблюдая за ним, я размышлял: «Каким же надо быть уверенным в себе, чтобы так просто держаться! И значит, всякие полыхания, самоутверждения — от неуверенности в себе».
Сам не знаю почему, может быть от того, что в те годы постоянно нуждался, сидел на мели, «находился в затруднительном материальном положении», как выражался Тимофеич, я особенно старательно расписывал «мусолил» деньги. Денег требовалось весьма много — в одном из спектаклей герой-святоша рвал их и швырял в лицо алчной героине со словами:
— Ты недостойна меня, потому что слишком любишь деньги! А деньги — это всего лишь бумажки!
Насчет наших фальшивых купюр он был абсолютно прав, а настоящие, к сожалению, далеко не бумажки. Например, разными денежными премиями поощряют искусство, хотя каждому художнику ясно — его картины стоят больше всяких денег, ведь в них — частица его сердца. Так вот, этих проклятых денег я наделал целый миллион, не меньше. Как-то во сне даже пустил эти деньги в дело и мне грозила тюрьма; к счастью, я вовремя проснулся.
Через год главный художник театра Сергей Николаевич Ахвледиани, заметив, что я знаю толк в краске, пригласил меня работать декоратором.
В мои обязанности входило расписывать клеевыми красками бутафорские стены, колонны, балконы. Высыхая, клеевые краски светлеют, и составить колер для эскизного пробного мазка — довольно сложная штука; ко всему, не доложишь в краску клея, актер может испачкаться, а переложишь — краска потрескается и осыплется. Здесь надо чутье. Я быстро усвоил всю эту премудрость и стал неплохим исполнителем.
Еще мне вменялось освежать задники — занавесы из тюля, на фоне которых происходит сценическое действие. Декоративная мастерская была огромной — с теннисный корт, и на ее полу помещался весь задник. С огромной кистью-дилижансом и ведром краски я ходил по лесам, морям и облакам, подмазывал деревья, волны, средневековые замки, закаты и рассветы, и чувствовал себя властелином всей земли. Это была завораживающая ситуация.
— Как дела в театре? — спрашивала моя приятельница художник Лена Гордеева, которая резала камеи из раковин, а основным в ее облике была хрупкость.
— С кистью хожу по облакам, — отвечал я с вызывающим оттенком в голосе. — Здесь чудеса на каждом шагу.
— Я сгораю от зависти, — вздыхала Гордеева с дурманящим взглядом. — Твоя работа, как золотой дождь. В ней очарование простоты.
Гордеева отличалась недооценкой собственных изделий (даже небрежным отношением к ним) и благоговейным отношением к дождям (в дождь босиком выходила на прогулку и, как девчонка, не пропускала ни одной лужи).
— Легкий моросящий дождь лучше всего, — говорила Гордеева. — Под него хорошо работается… Сильный затяжной дождь наводит на раздумья. В нудный, сонливый хорошо пить вино и предаваться любви, упасть в любовь. Но не в чересчур сильную — она опасна…
Насчет вина и любви я был с ней полностью согласен, хотя никакой любви у меня не было, в этом вопросе я был полный профан. К сожалению. Но к счастью, вскоре наверстал упущенное, и сполна.
Незнакомым людям Гордеева дарила визитку: «У меня нет квартиры, нет адреса, нет телефона, нет работы, нет любви, но я абсолютно счастлива».
Однажды в дождь Гордеева вошла в мастерскую, мокрая, босая, распахнула окно, впуская в помещение косые струи, плещущий шум и запах сырости; устало опустилась на стул, откинулась и, стряхивая с лица капли, жалобно заскулила:
— Ничего у меня, неумехи, не получается. Для художника у меня, мелковатый никчемный дух. Я как треснутая чашка. Не знаю, что делать: или красиво уйти из искусства или тихо остаться?