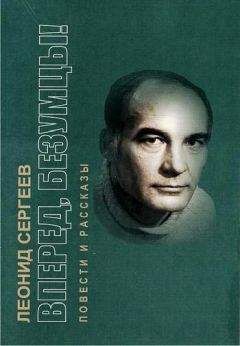— Ничего у меня, неумехи, не получается. Для художника у меня, мелковатый никчемный дух. Я как треснутая чашка. Не знаю, что делать: или красиво уйти из искусства или тихо остаться?
Я попытался ее взбодрить, и только разошелся в красноречии, как она исчезла, точно ее смыли дождевые потоки.
Что в театрах замечательно, так это приподнятая атмосфера перед премьерой. Ею заражаются все от осветителей до ведущих артистов, и в этом всеобщем ожидании настоящая семейность и теплота.
Все работники в театрах, как правило, мастера-виртуозы. Столяры — бывшие краснодеревщики, работницы пошивочного цеха — рукодельницы с великолепным вкусом. Надо видеть с какой выдумкой столяры изготавливают мебель ампирного стиля, как добросовестно швеи конструируют костюмы, а осветители — мастера по свету, могут так осветить теннисный мяч, что его примешь за яблоко. И как придирчиво эти мастера осматривают свои произведения во время для пап и мам — пробного спектакля для своих родственников, кстати, самых придирчивых зрителей. Но, главное, эти мастера работают за мизерные оклады. Вот у кого надо учиться любви к своему ремеслу!
После премьер в фойе накрывали столы с бутербродами и пирожными. В сервировке столов самое жгучее участие принимали пожарные — главные люди театра. До этого вечно ходили насупившись и сурово ворчали:
— Тюль плохо промазан пропиткой, может вспыхнуть! В перьях танцевать нельзя! Белый софит убрать, слишком палит! Фурки не выдвигать, искры!
Но в день премьеры «огнеборцы» оживали, в предвкушении застолья становились улыбчивыми, ходили вокруг столов, переставляли стулья, перекладывали бутерброды и все потирали руки, подмигивали друг другу. Ну а за столы рассаживались кто где хотел, без всякой субординации. Рабочий сцены мог запросто, бок о бок, восседать с народным артистом. Я, например, не раз чуть ли не в обнимку сидел с Астанговым, Ульяновым, Яковлевым, так что вроде примкнул к их славе.
Театры между собой связаны и часто обмениваются спектаклями. Наш театр по средам давал представления в театре Моссовета, а тот в свою очередь у нас. Это называлось «дружить коллективами». Я должен был присутствовать на выездах — вдруг рабочие сцены нечаянно порвут какую-нибудь декорацию и потребуется срочный подмалевок. Как правило, такое не случалось: я же говорю — в театрах работают знатоки своего дела. В театре Моссовета у меня появились новые знакомые, театральные художники — жизнелюбы, народ всезнающий, а уж спорщики — похлеще живописцев-станковистов и графиков.
— Театр — это потрясающе! — восклицал декоратор Александр Великанов. — Видят небеса, прямо на глазах рождается образ. Это не кино, где десяток дублей, все подрезано, заретушировано. В театре все необратимо: каждый жест, каждая реплика.
— В театре все фальшиво, — возражала художник по костюмам Наташа Кудашова; взбалмошная, с резкими скачками настроения, она могла в одну минуту перестроить любую компанию. — Все фальшиво! Я не верю, что раскрашенная фанера — дома, полосы картона — деревья, свисающая марля — листва. И актеры не говорят, а произносят. Мне интересно делать только костюмы. Костюм — это настоящее произведение.
— Особенно костюмы прошлого века, — поддерживала подругу Светлана Инокова, по прозвищу Пелерина (она в любое время года носила накидки). — Как говорила мадам Шанель — «Модно то, что не модно». В костюмах Прошлого века столько выдумки! Все эти оборки, рюши, жабо, струящиеся юбки подчеркивают индивидуальность женщины, придают ей таинственность. Не то, что теперь — все на виду, никакой тайны.
— Как вы не понимаете, в театре все условно! — кипятился постановщик Леонид Андреев. — В Древнем Риме на сцене вообще ставили доски с надписями: «дом», «лес»… Но, ясное дело, художник в театре не главная фигура.
— Ну ты и завернул! — вскрикивал Великанов, вскрикивал яростно, словно проглотил пламя. — Видят небеса, я придумываю не только обрамление спектакля, костюмы, я создаю всю атмосферу…
Великанов называл себя удачливым в работе и неудачником в житейском плане. Действительно, в его мастерской не раз случалось возгорание электропроводки (к счастью, ничего не сгорело), дважды на него нападали грабители, у машины, которую он купил позднее, однажды отказали тормоза… Но несмотря на эти грозные явления, я считал Великанова счастливчиком во всем: мало того, что он работал по призванию, он жил в большой ухоженной квартире с мебелью из старого темно-вишневого дерева, окантованного медью, имел красавицу жену и умницу дочь, которые его, главу семьи, обнимали и целовали по двадцати раз в день.
По словам Кудашовой, вокруг нее постоянно находились души умерших родственников и друзей, которые не давали ей покоя; этим она объясняла и свою взбалмошность, и костюмы-призраки. Мнительная Кудашова часто жаловалась на болезни, таскала в сумке кучу таблеток и пузырьков, и мечтала съездить во Францию, чтобы накупить заграничных лекарств и наконец «поболеть в свое удовольствие». В моей судьбе Кудашова принимала горячее участие. При встрече тихо ахала:
— Ты чем болен?
— Да, вроде, ничем, — пожимал я плечами.
— Нет, говори, чем ты болен? Я имею в виду не только адские болезни, но и мысли там всякие…
Я только вздыхал — мыслей было полно, но все, как правило, вполне здоровые, некоторые даже слишком.
— Вот возьми! — Кудашова протягивала пузырек с розовым сиропом. — Настойка по индийскому рецепту. Тебе поможет. И учти, я это даю не кому попало, ты понял?
Чтобы не обижать «знахарку», я с благодарностью принимал пузырек. Со временем у меня скопился целый ящик ее пузырьков, порошков, таблеток. Я ни разу ими не пользовался, но на вопросы Кудашовой «помогли ли?», непременно отвечал:
— Еще как!
Страшненькая, но добросердечная Пелерина (Инокова) свою комнату превратила в зверинец, где обитало множество всякой живности от рептилий до роскошного павлина. Художники анималисты часто заглядывали к Иноковой, делали наброски ее подопечных.
Инокова собирала ключи; у нее была потрясающая коллекция ключей: от примитивных для почтового ящика до ампирных, сложной, витиеватой конфигурации. Каждому новому гостю Инокова подносила связку ключей, и просила показать, какой ключ больше всего нравится; и по выбранному ключу безошибочно определяла характер и наклонности человека. Другими словами, посредством такого простого теста, гость сам подбирал ключ к своему сердцу.
— Вообще-то я и без ключей во всем разбираюсь, у меня чутье на людей, — призналась мне однажды Инокова. — Тебя, например, я сразу вычислила. Ты пропащий человек и, если не бросишь курить и выпивать, закончишь жизнь под забором.
С тех пор свою смерть я именно такой и представляю, но, естественно, на чистой простыне, на пуховой подушке, под цветущими деревьями — лежу у забора, покуриваю, меня обдувает ветерок, а вокруг стоят друзья и множество красивых женщин — прощаются со мной и рыдают в три ручья.
Говоря о театральных художниках, нельзя не перечислить еще нескольких из тех, кого я знал.
Художник-кукольник Олег Мосаинов работал в театре Образцова и слыл мастером-виртуозом. У Мосаинова было хобби — он собирал изделия из стекла, старинные часы и шкатулки; покупал их на барахолке и в комиссионках часто поломанными, и оживлял, благодаря золотым рукам и технической смекалке.
Комнату Мосаинова украшал стеклянный зверинец: видоизмененный мир, отраженный в стекле, а также стеклянные часы-кукушка, часы-кошка, часы-сова и часы с садом; каждый час, когда начинался бой, в саду шевелились стеклянные листья, порхали птицы и даже лил водопад — иллюзию падающей воды создавал крутящийся плексиглас.
— Стекло — самый изящный материал, — ликовал Мосаинов. — Прозрачный материал-невидимка. Ко всему, если прислушаться, эти игрушки издают звуки. Вообще все предметы вокруг нас издают звуки. Мы многое не слышим, но живем в мире музыки; она постоянно в воздухе.
С того дня по вечерам я стал прислушиваться к вещам в своей комнатушке и, действительно, каким-то странным образом они звучали — все на морской лад: звуки напоминали плеск волн, свист ветра, скрип оснастки судна. Эти звуки теребили мою морскую душу, вселяли в меня жгучую страсть к странствиям.
Художник Александр Тарасов делал декорации к кукольным спектаклям, а для себя, умело распоряжаясь палитрой, писал картины-фан-тазии: города, в которых не бывал, людей, с которыми не встречался.
— Все это в моей душе, — пояснял Тарасов.
Его диковинные идеалистические картины имели одно несомненное достоинство — они рисовали жизнь, какой она могла бы быть, если убрать из нее зло. Но, давно известно, такая жизнь — всего лишь прекрасная мечта, ведь зло и добро уравновешивают друг друга, и одно без другого не могут существовать — так же, как талант и бездарность, красота и уродство, ум и глупость, и многое другое.