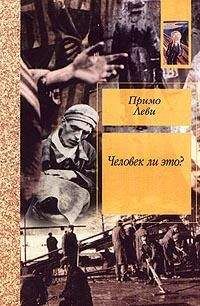Да и чего в ней такого особенного, в этой самой химии, над которой бьемся мы с лейтенантом? Та же вода, тот же огонь, как в кухне, и больше ничего. Только стряпня получается не такая аппетитная и пахнет противно, не то что домашняя. В остальном – никакой разницы. Здесь тоже приходится надевать фартук, смешивать продукты, беречь руки от ожогов, прибираться в конце дня и мыть посуду.
Алида слушала рассказы о моей туринской жизни с благоговейным сочувствием, к которому примешивалась доля итальянского скептицизма. Это были рассказы с купюрами, потому что и она, и я должны были соблюдать правила игры в мою анонимность, однако кое-что все же всплывало наружу. Спустя несколько недель я заметил, что не являюсь больше безымянным: я стал доктором Леви, хотя, чтобы не создавать лишних проблем, не должен был так именоваться ни в глаза, ни за глаза. На руднике, в царившей здесь атмосфере сплетен и терпимости, нестыковка моего не совсем законного положения с законопослушным поведением бросалась в глаза и, как мне донесла Алида, обсуждалась и интерпретировалась всеми, включая агентов ОВРА[24] и самых высоких начальников.
Спускаться в долину было сложно и не совсем благоразумно; из-за того что мне не положено было ни с кем вступать в близкие отношения, вечера тянулись бесконечно. Иногда после сирены я задерживался на несколько часов в лаборатории, иногда возвращался туда после ужина, чтобы позаниматься или поразмышлять о никеле, но чаще всего, закрывшись в своей монашеской келье, читал «Былое Иакова»[25]. Лунными ночами я совершал одинокие прогулки по диким окрестностям, доходил до края кратера или поднимался на серый гребень отработанной породы, которая подрагивала и поскрипывала, словно в глубине и в самом деле обитали трудолюбивые гномы. Из тонущей в темноте долины доносилось завывание собак.
Эти блуждания отвлекали меня от печальных мыслей об умирающем отце, о капитуляции американцев на полуострове Батаан, о вторжении немцев в Крым, вообще от ощущения, что я в западне, которая вот-вот захлопнется; в то же время я чувствовал, что между природой и мной складываются новые отношения – более естественные, чем в школьные годы, когда знакомство с ней носило риторический характер. Эти заросли ежевики, эти камни были моим прибежищем, моей свободой; свободой, которую очень скоро я мог потерять. Мимолетное, щемящее чувство нежности вызывали не знавшие покоя скалы, с которыми я был связан двойными узами: узами альпиниста, товарища Сандро по горным вылазкам, и узами химика, мечтавшего отнять у них сокровище. Плодом моей каменной любви, моего асбестового одиночества стали два рожденные долгими вечерами рассказа об островах и свободе – самые первые в жизни, которые я осмелился написать после внушавших мне страх школьных сочинений. Один был фантазией о моем далеком предшественнике, охотнике за свинцом и никелем, на другой меня вдохновили острова Тристан-да-Кунья, сведения о которых именно в тот период жизни попались мне на глаза.
Лейтенант, служивший в Турине, приезжал на рудник только раз в неделю. Он проверял сделанную работу, давал указания и советы, свидетельствовавшие о глубоком знании химии и несомненном исследовательском таланте. Когда закончился короткий подготовительный период, к ежедневной рутинной работе добавилась и творческая.
Никель в отработанной породе был, правда, в мизерном количестве: по результатам наших анализов в среднем всего 0,2 процента. Если сравнивать с железной рудой, добываемой моими коллегами-соперниками на другом краю света, в Канаде или Новой Каледонии, то и говорить-то не о чем. А что, если попытаться нашу руду обогатить? Под руководством лейтенанта я испробовал все возможные способы: магнитное разделение, размалывание, просеивание, флотацию, воздействие тяжелыми жидкостями. Результат нулевой: никель не концентрируется, во всех полученных фракциях его содержание остается на исходном уровне. Природа не идет нам навстречу, из чего можно заключить, что никель соединяется с двухвалентным железом, сопровождает его неотступно, как тень, как младший брат старшего, замещает его, как викарий замещает на земле Христа. Что бы мы ни делали, постоянное соотношение не менялось: 0,2 процента никеля приходилось на 8 процентов железа. Мы с лейтенантом испробовали все реактивы, способные воздействовать на никель, причем в дозах, превышающих положенные в сорок раз. И это не считая магния. С экономической точки зрения – занятие безнадежное. В минуты усталости я чувствовал враждебность, холодную, почти внеземную отчужденность окружавших меня скал. В отличие от них деревья в долине, уже одетые в весенний наряд, походили на людей; они не умеют говорить, но в остальном – как мы: чувствуют тепло и холод, радуются и страдают, рождаются и умирают, тянутся к солнцу, отдают на волю ветра семена. Другое дело – камень; он не вбирает в себя энергию, потому что давным-давно потух, еще в незапамятные времена; в своей пассивной враждебности он словно мощная крепость, которую мне предстоит разрушать бастион за бастионом, чтобы поймать чертенка, капризного никеля Николао, который прячется, уклоняется, отскакивает то в одну, то в другую сторону, злорадствует и постоянно прислушивается, чтобы при первом же ударе кирки броситься наутек, оставив тебя с носом.
Правда, времена чертенят, никелей и кобольдов давно прошли. Мы – химики, а значит, охотники, и у нас «два опыта взрослой жизни», как говорил Павезе, – удача и неудача, убить белого кита или потопить корабль. Нельзя сидеть сложа руки, нельзя сдаваться; разгадывая загадки материи, мы будем ошибаться и поправлять себя, получать удары и наносить их. Нельзя признаваться в собственной беспомощности; природа сложна и безгранична, но ей не устоять перед интеллектом человека: главное – искать, искать без устали, и тогда непременно найдешь.
Наши еженедельные совещания с лейтенантом больше походили на военные советы. Среди многих, проводимых нами экспериментов был и вариант восстановления никеля с помощью водорода. Мы клали тонко измельченный материал в фарфоровую кювету, кювету помещали в кварцевую трубку, трубку раскаляли снаружи и пропускали по ней водород в надежде, что он отберет кислород у никеля и восстановит его в виде чистого металла, а поскольку никель, как и железо, намагничивается, его легко будет потом отделить, пусть и вместе с железом, при помощи магнита. Однако наши надежды не оправдались: после воздействия мощного магнита на водяную взвесь мы обнаружили лишь следы железа. Неутешительный вывод напрашивался сам собой: в данном случае водород не восстанавливает никель, который, похоже, вместе с железом соединяется в прочную цепочку, притягивая к себе кремний и воду, и его (если можно так выразиться) это вполне устраивает, и ни в каких переменах он не заинтересован.
А что, если попробовать разорвать структурную формулу? Эта идея озарила меня, как вспышка молнии, когда совершенно случайно я обнаружил в лаборатории старую, покрытую пылью диаграмму. Диаграмму потери веса асбеста при температурных воздействиях составил один из моих безымянных предшественников, и она наглядно демонстрировала, что первая потеря воды (совсем немного) происходит при 150°С. По мере дальнейшего нагревания вес остается неизменным до 800°С, после чего резкий скачок вниз: потеря веса на целых 12 процентов! От руки приписано: «Становится хрупким». Но если асбест разлагается при 800°С, значит должна разрываться и структурная цепь. А поскольку химик думает и даже живет по известным ему моделям, я нарисовал на бумаге длинные цепи кремния, кислорода, железа и магния с частицами уловленного никеля, а потом те же цепи после разрушения, в виде отдельных звеньев с никелем, который удалось наконец выманить из норы, чтобы атаковать. Я рисовал свои цепи, как первобытный человек рисовал на скалах антилоп – с надеждой, что предстоящая охота окажется удачной.
Лейтенанта на руднике не было, но он мог появиться в любую минуту, и я опасался, что он не одобрит мою гипотезу, найдет ее слишком смелой. На сомнения времени не оставалось, у меня буквально чесались руки: будь что будет, но я принимаюсь за дело немедленно.
Нет ничего более увлекательного, чем проверять гипотезы. Под недоверчиво-снисходительным взглядом Алиды, которая то и дело поглядывала на свои часы, поскольку до сирены оставалось совсем немного, я быстро собрал установку, термостат зафиксировал на отметке 800°С, отрегулировал редуктор на баллоне, установил на место флюксметр. Затем полчаса разогревал материал, уменьшил температуру, пустил на час водород. Уже стемнело. Алида давно ушла, в тишине слышалось жужжание транспортера, который не останавливался даже ночью. Я чувствовал себя наполовину конспиратором, наполовину алхимиком.
Когда время вышло, я извлек кювету из кварцевой трубы, дал ей остыть, потом разболтал порошок в воде: из зеленоватого он превратился в желтоватый, и это показалось мне хорошим предзнаменованием. Я взял магнит и опустил его в воду. Каждый раз, когда я вынимал его, он тянул за собой хвост коричневого порошка, примерно около одного миллиграмма. Я осторожно снимал его фильтровальной бумагой и откладывал отдельно. Чтобы добиться убедительных результатов, надо было набрать хотя бы полграмма материала, а это несколько часов работы. К полуночи я надеялся процесс отделения закончить и сразу же приступить к анализу. Учитывая, что фракция намагничена (а потому, скорее всего, бедна силикатами), а также что времени осталось мало, я после некоторых раздумий решился на упрощенный вариант, и к трем часам утра результат был готов: вместо красного облачка никеля с диметилглиоксимом – внушительный осадок. Фильтрую, мою, сушу, взвешиваю. Окончательные данные пылают огненными цифрами на счетной линейке: 6 процентов никеля, остальное – железо. Победа! Можно обойтись без дальнейших отделений и без проверки в электрической печи.