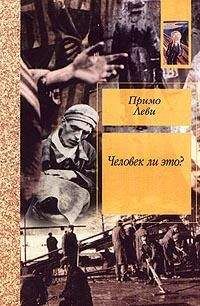Каких только историй я не наслушался! Создавалось впечатление, будто все пятьдесят обитателей рудника связаны друг с другом попарно, как при комбинаторном анализе; иначе говоря, каждый с каждым из всех остальных, особенно каждый мужчина с каждой из женщин, замужней и незамужней, и каждая женщина с каждым из мужчин. Стоило назвать наобум два имени, лучше одно мужское и одно женское, и спросить третьего: «В каких они отношениях?» – как тут же следовала какая-нибудь потрясающая история, потому что здесь все всё про всех знали. Странно, что все эти истории, часто запутанные и всегда интимные, с такой охотой рассказывались именно мне, человеку, который не мог ничего подобного рассказать в ответ, даже имени своего настоящего назвать. Но такова уж моя планида (о чем я совсем не жалею): мне всегда много всего рассказывают.
В разных вариантах я слышал одну историю из давно прошедших времен, случившуюся задолго до синьора Пистамильо, когда в кабинетах администрации рудника царили порядки Содома и Гоморры. В ту легендарную эпоху каждый вечер, когда в пять тридцать взвывала серена, никто из служащих не уходил домой. По этому сигналу между столами расстилались матрацы, появлялись крепкие напитки, и начиналась оргия, в которой участвовали все, начиная от тогдашнего директора до совсем молоденьких машинисток, лысеющих бухгалтеров и инвалидов-сторожей. Скука монотонной работы на руднике сменялась безмерной распущенностью, повальным грехом, межклассовым, публичным соитием. Прямых свидетельств не сохранилось, ни одного из участников этих оргий к нашему времени уже не осталось: происходившие на руднике безобразия вынудили миланское начальство принять суровые меры по оздоровлению кадров. Нет, один свидетель все же имелся, это была синьора Бортолассо. Она уверяла меня, что все знала, все видела, но говорить об этом стыдится.
Синьора Бортолассо вообще почти не говорила, только по делу. До того как она стала называться синьорой Бортолассо, ее звали Джина делле Бене. В девятнадцать лет, работая на руднике машинисткой, она влюбилась в рудокопа – молодого, худого, рыжего парня, который не отвечал ей взаимностью, но всем своим видом показывал, что принимает ее любовь. Ее родственники были настроены против него; они оплатили ее учебу, и она в благодарность за это должна была найти себе хорошую партию, а не заводить шашни с первым встречным. И если девчонка этого не понимает, они сами за нее решат. Так что пусть бросает своего рыжего или убирается из дома.
Джина готова была ждать (ей не хватало двух лет до совершеннолетия), но рыжий ждать не стал. В одно прекрасное воскресенье она увидела его с другой, потом с третьей, и, в конце концов, он женился на четвертой. Тогда Джина поклялась: раз она не смогла привязать к себе единственного дорогого ей мужчину, то другим она тоже принадлежать не будет. Нет, уходить в монастырь она не собиралась, у нее были современные взгляды, но она отказалась от брака, выбрав для этого изощренный и безжалостный способ – замужество. Джина была хорошим работником, администрация ценила ее за ум, усердие, собранность, и вдруг все, и родители, и сотрудники, узнают, что она собирается выйти замуж за Бортолассо, местного дурачка.
Этот Бортолассо числился на руднике садовником. Не очень молодой, сильный, как мул, и грязный, как свинья, он на самом деле не был дурачком в полном смысле этого слова, а скорее принадлежал к тому типу людей, про которых в Пьемонте говорят, что они прикидываются дураками, чтобы не платить за соль. Пользуясь своим иммунитетом слабоумного, он выполнял порученные ему обязанности с нарочитой небрежностью, в которой можно было усмотреть хитрость примитивного существа: вы, мол, постановили, что я не отвечаю за свои поступки, вот теперь и терпите меня такого, какой я есть, содержите меня, заботьтесь обо мне.
В дождливую погоду асбест намокает, и его труднее извлекать, поэтому без плювиометра (прибора, регистрирующего количество влаги) на руднике не обойтись. Бортолассо, каждое утро поливавший клумбы, имел обыкновение поливать заодно и плювиометр, способствуя тем самым значительному удорожанию производственного процесса. Директор, который всегда лично следил за показаниями плювиометра, заметил это (правда, не сразу) и запретил Бортолассо поливать прибор. «Выходит, ему нравится, когда сухо», – заключил садовник и после каждого дождя открывал нижний клапан и спускал набравшуюся воду.
Ко времени моего появления на руднике Джине, уже синьоре Бортолассо, было лет тридцать пять. Ее лицо с его неброской красотой застыло в неподвижную маску, отмеченную печатью затянувшейся девственности. Она и в самом деле продолжала оставаться девственницей, о чем знали все, потому что Бортолассо всем об этом рассказывал. Таковы были условия их брака, и он на них согласился, тем не менее почти каждую ночь он пытался проникнуть в постель жены. Она яростно защищалась и стойко держала оборону: никогда к ней не прикоснется ни один мужчина, тем более этот.
Ночные баталии несчастных супругов стали для рудника притчей во языцех, одним из немногих развлечений. Как-то ночью, когда на улице потеплело, группа болельщиков отправилась к их дому послушать, что там происходит, и позвали меня к ним присоединиться. Я отказался, а они очень скоро вернулись разочарованные: из дома слышались лишь звуки тромбона, выводившего мелодию «Черной мордашки»[23]: оказалось, Бортолассо не просто дурак, а дурак музыкальный (встречаются и такие); игра на тромбоне помогала ему освободиться от нерастраченной энергии.
В свою работу я влюбился с первого дня, хотя поначалу пришлось заниматься лишь количественным анализом образцов породы. Беру плавиковую кислоту, осаждаю железо аммиаком, никель – диметилглиоксимом (крошечная красная крупица в осадке, как мало!), магний – фосфатом. Каждый день одно и то же, честно говоря, не очень увлекательно. Увлекательно и необычно другое: анализируемый образец из безликой песчинки превращается в разгаданный кроссворд, в частицу земного вещества, выброшенного взрывом мины на поверхность. Постепенно в результате ежедневных анализов рождалась карта, на которую я наносил узоры подземных жил. Впервые после семнадцати лет учебы, после всех этих греческих глаголов и пелопоннесских войн полученные знания начинали приносить плоды. Количественный анализ из рутинного и занудного занятия превращался в живое, настоящее, полезное дело, которое должно было послужить важной, вполне конкретной цели. Он был необходим, как фрагмент мозаики, он был частью общего плана. Аналитический метод, которым я пользовался, уже не был книжной догмой, я проверял его ежедневно, улучшал, оттачивал, приспосабливал к нашим задачам, ломал себе голову, экспериментировал, ошибался. Но ошибиться уже не значило допустить досадный ляп, за который тебе на экзамене снизят оценку; ошибиться теперь было почти то же самое, что ошибиться в горах, где точный расчет, собранность, правильно выбранная опора при подъеме помогают набраться опыта, закалиться.
Лаборантку звали Алида. Она не разделяла моего энтузиазма неофита и помогала мне безо всякого интереса, даже с каким-то раздражением. Меня, напротив, ее присутствие в лаборатории не раздражало. Она окончила лицей, могла процитировать Пиндара и Сафо, ее отец был одним их местных начальников, вполне, впрочем, безобидным. Хитрая и ленивая, она ничем не интересовалась, тем более анализом породы; эту работу, которой ее научил лейтенант, она выподняла чисто формально. Как и все здесь, Алида была связана отношениями со многими и охотно выдавала мне свои тайны, а я их слушал, продолжая исполнять навязанную мне роль исповедника поневоле, о которой уже говорил. Она ссорилась со многими женщинами, своими соперницами, была влюблена понемногу во многих, во всяком случае, больше чем в одного, считалась невестой совсем другого, честного скромного незаметного сотрудника технического отдела, своего односельчанина, выбранного для нее родителями. Как и все остальное, это ей тоже было безразлично. Ничего не поделаешь! Не бунтовать же, не сбегать из дома! Она девушка из порядочной семьи, ее будущее – дети и кухня. Сафо и Пиндар остались в прошлом, никель – пустая трата времени. Она работала спустя рукава в ожидании не слишком желанной свадьбы, мыла кое-как химическую посуду, взвешивала никель с диметилглиоксимом, и мне нелегко было убедить ее не завышать результаты анализов, что она, по ее признанию, делала частенько, чтобы порадовать директора, лейтенанта и меня, потому что, как она говорила, кроме нас троих, это никому не нужно.
Да и чего в ней такого особенного, в этой самой химии, над которой бьемся мы с лейтенантом? Та же вода, тот же огонь, как в кухне, и больше ничего. Только стряпня получается не такая аппетитная и пахнет противно, не то что домашняя. В остальном – никакой разницы. Здесь тоже приходится надевать фартук, смешивать продукты, беречь руки от ожогов, прибираться в конце дня и мыть посуду.