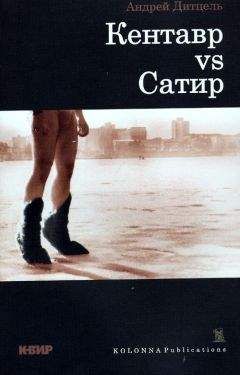К декабрю я всё чаще стал впадать в уныние. Мой парень собирался в Германию — это казалось невероятным недоразумением. Редакция мучительно рожала новогодний номер — первый цветной в истории газеты, дополнительный фактор стресса… В самый разгар этого в больницу попал верстальщик. Мне, как универсальному и техническому гению, заслуженному левше и человеку доброй души, предстояло доделывать обложку и везти газету в типографию. Две ночи на рабочем месте — и номер выходит. Вечер выходного дня — я чувствую себя героем отраслевой прессы и наряжаю елку, когда раздаётся звонок Круглянской. Начальник ЖД недоволен цветом праздничной ленточки на первой полосе. Будем переделывать. Заодно и новую заметку вверстаем. Вся редакция уже в сборе, ждут только… В этот момент у меня в голове промелькнуло, что моей семьи через неделю не станет; что эта многостаночная работа ненавистна мне; что Круглянская зарвалась и слишком смачно лижет чью-то жопу… И ещё пара мыслей, которые я не замедлил высказать.
«Хорошо, я действительно не могу заставить вас работать три ночи подряд. Повода быть недовольной вами у меня тоже нет. Пообещайте, что вы напишете заявление по собственному».
Когда я сдавал дела, Макс, Алексаналексаныч и Павлов выстроились выражать соболезнования — и я вдруг понял, что они навсегда останутся здесь, будут дрожать за свои задницы и даже на смертном одре бредить о значке «Почётный железнодорожник». А у меня больше не будет такой подневольной работы.
Чёрная полоса, по моим ощущениям, продолжалась ещё долго, но вот… вот я праздно шатаюсь по Москве, знакомлюсь с новыми людьми и даже что-то зачитываю на сборище авторов «Стихиры»; вот я получаю место в языковом центре; впервые прилетаю в Германию; сдаю в печать книжку; вот переводы; вот волейбол. Чёрные полосы нужны, чтобы понять, кто ты есть и чего ты можешь добиться, когда остаёшься один. В октябре случилась моя свадьба, — мы были первыми русскими мужчинами, зарегистрировавшими такой брак, — а в конце зимы я перебрался в Гамбург.
Мой 2000-й — это пачка публикаций, за которые теперь стыдно, но какой всё-таки опыт; это треугольник поездов Омск — Барнаул — Новокузнецк; это вечерние прогулки к Обскому морю за руку с любимым человеком, — не обращая внимания на вытянутые лица встречных. Это вкус скорых перемен, которые нельзя остановить.
A (…)
Меня хотели назвать Андреем, как прадедушку Андрея Кондратьевича Дитцеля, добрейшего и очень красивого человека. Он был призван на фронт ещё до августовской депортации немцев из Поволжья. Точно не знаем, где он погиб — либо на войне, либо в трудармии, куда вскоре отозвали всех военнослужащих подозрительных национальностей.
И первые несколько дней жизни меня называли Андреем. Но отец неожиданно настоял на другом имени, в честь лучшего друга. Я рос, ходил в школу, поступал в институт. Но мне всегда хотелось быть Андреем. Постепенно это приняли друзья. И родители перестали удивляться, когда к телефону просили пригласить Андрея. В восемнадцать лет, отдавая в печать первую большую подборку стихов, я задумался, как их лучше подписать. До этого несколько текстов выходили за подписью Андрей Веселов или Андрей Невесёлов — по настроению. Подписался Дитцелем. Бабушка плакала. Прабабушка была ещё жива, но мало понимала родных. Когда я её навещал, она рассказывала, мешая русские и немецкие слова, что есть только одна сильная молитва — «Кристи Плют». Я был уверен, что она сама придумала этот страшный и путаный текст и к тому же меняет его каждый раз, рассказывая по памяти. Позже я узнал, что это стихотворение 1739 года, его написал граф фон Цинцендорф.
Имена сильнее нас. Моё со временем обзавелось всеми мелочами, которые требуются для решения иных формальностей с почтой, налогами, билетами и т. д. Перебирая бумаги, я на днях сложил отдельной папкой авторские договоры, выписки из типографии, заявки на сценарную работу, письма, переводы. Сейчас я могу подписывать любым из имён официальные документы, это невероятно здорово.
Школа
Бывшая учительница собирает книгу о городе и школе, просит что-нибудь написать. Ну хорошо, попробую, хотя не уверен, что ей пригодится.
Что меня больше всего удивило и что больше всего понравилось в первом классе? Совершенно не раздумывая отвечу: фонтанчики с питьевой водой. Любимой игрой, конечно, было зажать струю и неожиданно забрызгать проходящего школьника. Только пить из фонтанчиков нужно было осторожно. В любой момент кто-то мог толкнуть. У одного одноклассника навсегда осталась рассечённой губа. Столько крови я тогда видел впервые. И он, и я, и ещё несколько детей знали, кто толкнул, но не хотели быть стукачами.
Да, это одно из первых выученных в школе слов. А одна из наших веселых игр называлась в парашу или парафин. «Парашей» становился тот, кому подбрасывали половую тряпку или что-нибудь куда более грязное. Тот, кто его трогал, сам становился парашей или «парафинился». Но на деле это была бесконечная эстафета — вся школьная параллель носилась на переменах с тряпкой, пока её не отнимали учителя или дежурные по школе — парашей успевал побывать каждый, это не было большой трагедией. По крайней мере в младших классах.
Окончание младшей школы совпало с тем, что все фонтанчики опечатали. Вода теперь была только в туалетах или в умывальниках перед столовой — там никогда не мыли руки, но всегда стояла очередь пить. Школьный водопой. Сначала фонтанчики можно было тайком открывать ключом, но потом они насмерть заржавели. Ещё около года они стояли как мусорки и плевательницы, пока их одним прекрасным днем не выкорчевали и не сдали в металлолом.
Меня не переубедить, что пересохшие фонтанчики и конец детства как-то связаны с разрухой, новыми талонами — на туалетное мыло, макаронные изделия, чай, сахар… Наша безумная классная Надежда Ивановна ещё проверяла качество узлов и чистоту пионерских галстуков, между делом отмечая, что поляки предают коммунизм, — в третьем классе нам, кстати, разрешались только белые рубашки, — а на улице уже творилось что-то невообразимое. На фоне первых кооперативов и перестройки, но в особенности накануне перемен, невообразимо расцвел блат. По знакомству доставалось практически всё — дутые сапоги, бытовая техника, справки, путевки. По знакомству же можно было избавиться от унизительной физкультуры или бессмысленной школьной практики. Но мои родители, к счастью или несчастью, ничего подобного для меня не делали.
Мне было лет девять, когда я догадался, что система даёт сбои. Конечно, тогда бы я назвал это иначе. Чтобы как-то занять детей на летней практике (по каким-то причинам нас не могли вывезти, как всегда, в совхоз «Заводской») в школе объявили сбор лекарственных растений. Тут же во дворе. Выдали мешки и проинструктировали, как рвать подорожник и мать-и-мачеху. В одном из самых грязных и индустриальных районов полуторамиллионного города! Школьники старались побыстрее выполнить норму и освободиться. На полу в рекреации расстелили брезент и раскидывали травы для просушки. Каких сорняков там только не было! И это сено начинало медленно подгнивать. В последние дни «практики» я видел, как старшеклассники устроили на брезенте возню. Даже если «сырьё» и попало в аптеки, в чем я сильно сомневаюсь, то могло стать для больных источником разве только свинца.
За полчаса до звонка на первый урок класс, назначенный дежурным, выстраивался в живую цепь и блокировал школьный вестибюль. Чтобы ученики не могли без разрешения продвинуться в раздевалку и на второй этаж. Бывало, кому-то удавалось порвать цепь дежурных с разбегу, как в игре «цепи кованые». Но за четверть часа до звонка перед живой плотиной всё равно собиралась внушительная толпа. После открытия шлюзов в раздевалке и на лестницах, естественно, творилось смертоубийство. Кто и зачем придумал этот ежедневный спорт — было и остается для меня загадкой.
Школа — со спивающимися «трудовиками», отравлениями в столовой, тычками в спину — оставалась тем не менее одним из убежищ от ещё более абсурдного и жестокого окружающего мира. Все свое школьное средневековье я провел между домом и школой, по возможности не задерживаясь на улице. Библиотека № 59, ещё один опорный пункт, находилась в другом микраже, и добираться до неё было уже подвигом. Да, деньги трясли, но это было не так страшно. За яркий портфель или новую куртку могли и замочить, порезать. Как и за чуть более длинные волосы, за что угодно, выделяющее тебя из толпы.
При том, что я был заучкой («ботаник» в Сибири не говорили), ко мне довольно хорошо относились. Парни из местной банды подростков, в которой заправлял некто Бадырин, на два года старше, олицетворение животной жестокости, даже заступались за меня, «гения». Если кто-то из них дожил до двадцати, то наверняка не на свободе. Я откупался от них чертежами космических кораблей. Не знаю, кому из них и почему это пришло в голову. И что они с ними делали. Я рисовал очередные межгалактические крейсеры на фотонных отражателях, у меня просто забирали рисунки.