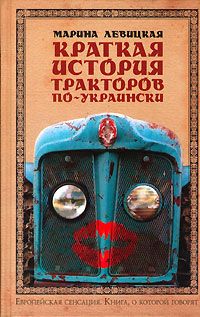— Надежда, одолжи мине, будь ласка, сто фунтов на ремонт. 3 пенсии верну.
— Папа, — сказала я, — надо было покупать «форд-фиесту».
И послала ему чек.
Потом он позвонил сестре. А она позвонила мне:
— Что там с этой машиной?
— Понятия не имею.
— Он просит одолжить сто фунтов на ремонт тормозов. Я спросила: неужели Валентина не может заплатить из своих сбережений? Она ведь неплохо зарабатывает.
— И что он ответил?
— Даже слушать не стал. Боится ее спросить. Говорит, она пересылает деньги в Украину своей больной матери. Представляешь? — Ее голос звенел от раздражения. — Всякий раз, когда я начинаю ее критиковать, он моментально становится на ее защиту.
— Возможно, он все еще любит ее. — (Я — неисправимый романтик.)
— Да, наверное, любит. — Она умудренно вздохнула. — Мужики — такие идиоты.
— Миссис Задчук сказала ей, что муж обязан платить за обслуживание машины своей жены.
— Обязан? Какая прелесть! Какая галантность! Он сам тебе об этом сказал?
— Хотел узнать мое мнение. Очевидно, раз я феминистка, он считает меня специалистом по правам жен. — Я точно не знала, как моя сестра относится к феминизму.
— Насколько я помню, маме никогда не нравились эти Задчуки, — задумчиво пробормотала Вера.
— По-моему, все дело в мужской гордости. Он не может просить деньги у женщины. Думает, что мужчина должен быть кормильцем семьи.
— И поэтому попросил их у нас с тобой, Надежда.
— Но мы ведь не настоящие женщины.
Майк решил ему позвонить. Они долго обсуждали преимущества и недостатки гидравлической тормозной системы. Провисели на телефоне целый час. Майк почти все время промолчал, изредка вставляя: «М-мм. М-мм».
Очередной кризис разразился через месяц. Из Украины приехала Валентинина сестра. Ей тоже захотелось красивой западной жизни, которую Валентина описала ей в своих письмах: изящный современный дом, роскошная машина, муж — богатый вдовец. Ее нужно было встретить в Хитроу на машине. Отец сказал, что «ровер» не доедет до Лондона и обратно. Из двигателя капало масло, а из тормозов — тормозная жидкость. Двигатель дымился. Одно из сидений сломалось. Сквозь свеженанесенную торговцем краску и полировку проступила ржавчина. Станислав подытожил проблему:
— Машина не престижна, — сказал он с легкой, почти презрительной ухмылочкой.
Валентина набросилась на отца:
— Ты брехун! Богатый жлоб! Обищав гроши. Гроши в банку. Обищав машину. Дерьмова машина!
— Ты ж требовала престижну машину. Вид в нее престижный, токо она не изде. Ха-ха!
— Дерьмова машина! Дерьмовый муж! Тьпху! — плюнула она.
— Де ты выучила це слово «дерьмовый»? — спросил ее отец. Он не привык, чтобы им командовали. Он привык поступать по-своему, привык, чтобы его ублажали и задабривали.
— Ты ж инженер. Шо ж ты не справиш машину? Дерьмовый з тебе инженер.
Сколько я себя помню, отец всегда разбирал и собирал у себя в гараже двигатели. Но сейчас он уже не мог залезть под машину: артрит не позволял.
— Скажи сестре, хай иде поиздом, — огрызнулся отец. — Поиздом. Самолетом. Любым совремьонным видом транспорта. Дерьмова машина! Конешно ж, дерьмова. Ты ж хотила. От и получила.
Возникла еще одна проблема. Дерьмовая плита. Та, что стояла на кухне еще при маме, устарела. Работали только две конфорки из трех, таймер в духовке сломался, хотя сама духовка еще функционировала. На этой плите более тридцати лет готовились восхитительные чудеса кулинарного искусства, но на Валентинину сестру это не произвело бы никакого впечатления. Плита была электрическая, а любому дураку известно, что газ престижнее электричества. Но разве сам Ленин не говорил, что коммунизм — это социализм плюс электрификация?
Отец согласился купить новую плиту. Он любил транжирить деньги, однако денег больше не осталось. Плиту нужно было покупать в рассрочку. Он видел в кооперативном специальное предложение. Валентина посадила Николая в Дерьмовую Машину и повезла в город покупать престижную плиту. Она должна быть газовой. Коричневого цвета. К сожалению, коричневая плита не была включена в спецпредложение. И стоила в два раза дороже.
— Смотри, Валенька, така сама плита. Таки сами ручки. Такой самый газ. Усё так же само.
— У бывшем Совецьком Союзе уси плиты були бели. Дерьмови плиты.
— Но у кухне усё беле — стиральна машина бела, холодильник белый, морозилка бела, шкафчики бели. Скажи мине, нашо нам коричнева плита?
— Ты богатенький жлоб! Хочешь купить мине дерьмову плиту.
— Моя жена готовила на ний триддять лет. И готовила лучче за тебя.
— Твоя жена була селянська баба. И она готовила селянську иду. У цивилизованных людей плита дожна буть газова и коричнева. — Она говорила это медленно и выразительно, словно бы повторяя дебилу элементарный урок.
Отец оформил покупку плиты для цивилизованных людей в рассрочку. Никогда в жизни он не одалживал денег, и от этого рискованного поступка у него голова пошла кругом. При жизни мамы деньги хранились в коробке из-под ирисок, спрятанной под отставшей половицей и прикрытой линолеумом, и мы покупали что-нибудь, только если удавалось накопить достаточно денег. Всегда за наличные. Всегда в кооперативном. Кооперативные купоны складывались в книжку, которая тоже хранилась под половицей. В последние годы мама узнала, что выгодно вкладывать деньги в строительную компанию, но обналиченные проценты от этих вкладов тоже складывались под половицей.
Следующая проблема — грязь в доме. Дерьмовый пылесос. Старенький «гувер-джуниор» не собирал всего мусора. Валентина увидела рекламу пылесоса для цивилизованных людей. Голубого. Цилиндрического. Не надо наваливаться всем телом — сам все высасывает. Отец оформил еще одну покупку в рассрочку.
Все это рассказал мне отец — естественно, как это выглядело с его стороны. Возможно, события можно было увидеть в другом свете, более выгодном для Валентины. Но я даже не хотела об этом думать. Представила себе отца — дряхлого и сутулого, трясущегося в бессильной злобе, и меня охватил праведный гнев.
— Папа, ты должен сопротивляться. Просто скажи ей, что не обязан выполнять все ее прихоти.
— Гм-м, — сказал он. — Так.
На словах он соглашался, но голос звучал неуверенно. Ему нравилось жаловаться и искать сочувствия, но он не собирался ничего менять.
— Она питает нереальные надежды, папа.
— Но она в етом не винувата. Она верить усей етой западной пропаганде.
— Так, может, ей лучше поучиться? — язвительно заметила я.
— Но ты усё равно лучче не говори про це Вере.
— Разумеется. — (Жду не дождусь!)
— Понимаешь, Надежда, она не поганый чоловек. В нее просто неправильни представления. Она не винувата.
— Посмотрим.
— Надежда…
— Что?
— Не говори про це с Верой.
— Почему?
— Она буде смеяться. Скаже, я ж тебе говорила.
— Ничего подобного. — (Я знала, что так оно и будет.)
— Ты ж знаешь, який она чоловек, ета Вера.
Я чувствовала, как вопреки своей воле втягиваюсь в эту мелодраму — возвращаюсь в детство. Меня словно захватывал пылесос для цивилизованных людей, высасывающий весь мусор. Засасывал в пылевой мешок прошлого, набитый плотными серыми воспоминаниями — бесформенными, смутными, нечеткими комками, погребенными под вековечной пылью. Пыль лежала везде — она душила меня, хоронила заживо, засыпая и наполняя легкие, так что я уже не могла ничего видеть, не могла дышать и лишь восклицала:
— Папа! Почему ты всегда так злишься на Веру? Что она такого сделала?
— Ох, ета Вера. Она была така властна, даже ребенком. Цеплялася за Людмилу железной хваткой. И сосала, сосала, сосала. Такий характер. Плакала. Крычала.
— Папа, она же была грудным младенцем. Она не могла иначе.
— Гм-м.
Моя душа вопила: «Ты должен нас любить. Ты обязан нас любить, какими бы плохими мы ни были! Именно так поступают нормальные родители!» Но я не могла сказать об этом вслух. Да и в любом случае, наверное, он не виноват. Его же вырастила баба Надя с ее пустыми борщами и строгими наказаниями.
— Никого из нас не переделаешь, — сказала я.
— Гм-м. Дуже интересно обсудить етот вопрос психологического… — (Он произносил «псыхологичеського».) — …детерминизьма. Например, Лейбниц, который, между прочим, був основателем современной математики, считав, шо усё было детерминировано у момент творения.
— Папа…
— Так-так. И усё время куре. Даже когда Мила умирала. Сигарета — страшенный деспот. — Он понял, что мое терпение на исходе. — Я говорив тебе, Надя, шо я один раз чуть не вмер од сигарет?
Это что — грубая уловка, попытка перевести разговор на другую тему? Или он уже совсем рехнулся?
— Не знала, что ты курил.