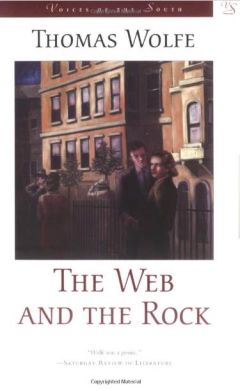Вот идут под ветром двое влюбленных. Лица их обращены друг к другу, они горделивы, улыбчивы, таких, как они, нет боль shy;ше на свете, то, что они знают, никто никогда не знал. Они про shy;ходят. Следов их ног на тротуаре нет. Они оставляют этот угол ве shy;тру, пустоте, октябрю.
Красный свет светофора сменяется зеленым, и по авеню утес за утесом вздымаются здания, ужасающие в своей надменности и гордыне, в своей холодной красоте. На другой стороне улицы я вижу магазин, где работает Эдит, одиннадцать стройных этажей изысканности. Неукрашенная белая гладкость его стен подобна бедрам женщин, которых он украшает. Вдохновенное, прекрас shy;ное здание столь же высокомерно, сладострастно, роскошно, как та жизнь, что питает его, поскольку оно живет за счет нахальства моды и гибели вещей. Оно гласит о громадном богатстве и безду shy;шии, хотя на его гладких стенах ни надписи, ни символа, ни еди shy;ного знака.
Теперь я вижу в сердце жизни свернувшуюся, поджидающую змею, вижу, как мужчины начинают любить эту гадюку, эту кобру. Некоторые из нас, самые лучшие и красивые, страшились любви и умерли, и над всей этой суровостью башен виден лик страха.
О, я хочу воззвать к ним, сказать, что бояться глупо! Хочу ска shy;зать то, что они боялись сказать – что любовь коренится в земле, что любовь прекрасна и вечна, что мужчины должны любить жизнь и ненавидеть нежить, которая не умрет, но все же боится умереть. Я узнала нечто ужасное о нас, и это необходимо изменить. Те, кто боялся любви, возненавидели любовь. Они ненавидят любящих, насмехаются над любовью, и сердца их полны праха и злобы.
Эдит и я были в детстве красивыми и смелыми. Очень сильны shy;ми, преданными, исполненными любви. Волнующая канва наше shy;го детства была красочной, но исполненной страдания, радости и очень непрочной. В детстве были отец, мать и наша очарователь shy;ная Белла. До того непрактичные и прекрасные, что теперь даже кажется, будто мы были родителями наших родителей, матерями детей, которые породили нас. Мы обе были так юны, так свобод shy;ны, так просты, так щедро одарены. Талант к созиданию, к пре shy;красному бурлил в нас, и все, что мы делали, было замечательно.
Мир принадлежал нам, потому что мы любили его. У нас бы shy;ло обостренное чувство природы. Мы видели жизнь во всем ок shy;ружающем – жизнь, которая слабо бьется в толще старой кир shy;пичной стены, жизнь, которая устало висит в досках старой, по shy;коробившейся двери, жизнь, которая заключена в столах и стуль shy;ях, в ножах с истертыми серебряными рукоятками, жизнь всех вещей, которыми люди пользовались – пальто, башмаков, твоей старой шляпы, дорогой мой. И этих улиц, надземной железной дороги, от которых сжималась твоя душа, этих толп и суеты, пе shy;ред которыми ты испытывал робость!
– Земля! – говорил ты. – Верните нам землю! Я говорю тебе, что земля здесь, и что мы это знали. Вот она, почва, урожай, земля. Говорю, что никогда не бывало более плодо shy;родной, более живой земли, чем эти улицы и тротуары. Возможно, как ты сказал, в моей густой еврейской крови есть нечто, заставля shy;ющее меня любить толпу. Мы – рой пчел с медом, мы любим ве shy;селье, изобилие, движение, еду и многолюдье толпы. Этот город был моей поляной, я знала его и любила, я гуляла по нему, эти ли shy;ца были моими травинками. Я понимала жизнь этого города – ус shy;талую, но счастливую жизнь улиц, когда их покидают вечерние толпы, задумчивое спокойствие зданий, отдыхающих после рабо shy;ты в них, негромкие вечерние звуки, запах моря и судов, постоян shy;но доносящийся из гавани, последний, красный, неземной свет заходящего вдали солнца, не слепящий, не жгучий, на стенах ста shy;рых кирпичных зданий. Все это и еще многое я знала и любила.
Поэтому я знаю, что земля не хуже, чем холмы и горы твоего детства. От какого ужаса ты хотел бежать? Неужели тебе суждено вечно быть глупцом без веры и проводить жизнь в скитаниях?
«От ужаса восьми миллионов лиц!».
Помни о восьми – знай один.
«От ужаса двух миллионов книг!»
Напиши одну, в которой будет две тысячи слов мудрости.
«Каждое окно – это свет, каждый свет – комната, каждая комната – камера, каждая камера – человек!»
Все комнаты, все окна, все люди для твоей жажды? Нет. Вер shy;нись в одну: наполни эту комнату светом и великолепием, пусть она сияет, как не сияла ни единая, и вся жизнь будет делить с то shy;бой эту комнату.
О, если б только я могла докричаться сейчас до тебя, поделиться с тобой своей мудростью, сказать, что ты не должен стра shy;шиться этих ярко освещенных каменных чудовищ! Здесь нет чу shy;да, нет тайны, которых ты неспособен постичь. Если построят Вавилонскую башню в десять тысяч этажей или если десяти shy;миллионный город съежится до размеров муравейника, все рав shy;но мое сердце будет биться ровно, все равно я буду помнить ли shy;сток, появление первой зелени в апреле. Потому что видела, как эти тихие улицы заполнялись машинами, дымом и грохо shy;том, видела, как веселый поток жизней и лиц становился гус shy;тым, бурным, видела, как человеческий дом поник под нечело shy;веческими башнями, и не нахожу в этих знамениях никакой тайны. Я говорила тебе, что магазин, где работает моя сестра, обязан своим существованием платью, которое она сшила мне из отреза купленной по дешевке ткани: в ее таинственном духе есть некое волшебство, из этого духа и появилось горделивое каменное здание. А раз так, то разве человек не выше башни? Разве тайна, сокрытая в одном атоме усталой плоти, не значи shy;тельнее, чем все вздымающиеся огни?
И теперь я снова думаю о тихих улицах, особняках, старом утраченном городе моего детства, и он кажется до того близким, что можно коснуться рукой. Снова вижу детское лицо, вижу деся shy;ток людей, которыми была некогда. Слышу прежние звуки, преж shy;ние песни, прежний смех. Прилив памяти заливает мне сердце со всем разнообразным грузом значительного и мимолетного – с ли shy;цами мужчин в шляпах дерби, идущих по Бруклинскому мосту, смехом влюбленных на темных улицах, трепетом листа на ветке, неожиданным пятном лунного света на темной морской воде в тот вечер, когда познакомилась с тобой, шелестом кружащихся на вет shy;ру газетных обрывков, узловатым деревом над развалинами стены в штате Мэн, голосом, который давным-давно отзвучал, и с пес shy;ней, которую пела в сумерках моя мать перед смертью.
И думаю о тебе! Думаю о тебе!
Все события, все времена моей чудной жизни сошлись воеди shy;но, и я думаю обо всей красоте, которую создала, и которая ис shy;чезла. Вижу театральные декорации, над которыми трудилась, конец спектакля, рабочих, убирающих сцену, прощающихся друг с другом актеров: краткое сияние, великолепие своей работы и ее скорый конец, забвение на складе, занавес, поднятый перед ря shy;дами пустых кресел.
И думаю о тебе.
А ты, представилось мне как-то, вечером сидел там, в темном зале, и вся моя душа воскликнула: «Он вернулся ко мне!». И я сказала: «Кто это? Что за человек сидит там?». А потом увидела, и всегда вижу, что это не ты. Я вижу не тебя. А уборщицы продол shy;жают откидывать пустые сиденья.
А теперь я снова приехала домой, из Парка в давнем октябре.
Полицейский привел Эстер домой, она надеялась, что там никого не будет. Кэти впустила их, Эстер велела ей дать этому че shy;ловеку денег и угостить его выпивкой.
А потом вошла в темноту своей комнаты й стояла в потемках, прислушиваясь к пароходам на реке. Думала о Джордже, и в моз shy;гу ее все кружилось, словно палая листва на ветру в Парке, в дав shy;нем октябре.
Думала о нем. Долго, долго в ночи думала о нем.
(Раз!)
О, я слышу пароходы на реке.
(Два!)
О, вот большие пароходы идут вниз по реке.
(Три!)
Когда долго, долго я лежу в ночи без сна.
Время, прошу тебя, время! Который час? Уже пора спать, юная леди. Уже пора умереть, юная леди. Да, твоей любимой пора уме shy;реть.
«И слушая тебя, о времени напрочь забываю». О, Господи! Как это прекрасно, как правдиво! Я думаю обо всем времени, что мы провели вместе, обо всем восторге и блаженстве, что мы познали. Поверит ли кто этому? Бывало ли когда-нибудь нечто подобное?
Я беру книгу, большую антологию, твой подарок, и читаю иногда чуть ли не всю ночь. Господи, какие замечательные стихи можно отыскать в ней! Я вижу, что другие сердца были отягоще shy;ны задолго до моего, что поэты во все времена писали о своей пе shy;чали. Это так прекрасно, но какое блаженство было больше на shy;шего? Кто описал его? Кто умерил мои страдания? Кто любил так, как мы? Кто знал блаженство, горе и все прекрасные времена, какие мы знали вместе?
В больничной палате Мюнхена Джордж сидел на краю своей койки. На стене перед ним, над тумбочкой, висело зеркало, и он вглядывался в него.
«Лик человека в зеркале разбитом». А что его разбитое лицо в целом зеркале?
Из темных глубин зеркала сидящее Существо подается впе shy;ред, торс кажется укороченным, толстая шея втянута в широ shy;кие плечи, очертания груди напоминают бочку, громадная ла shy;пища сжимает коленную чашечку. Таким он вылеплен, таким создан.