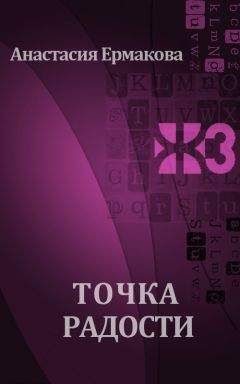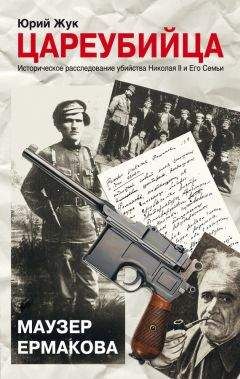— Ни в жизнь! — хохочет его подруга, поймавшая, наконец, увертливый гриб.
— И правильно! Так жить веселее! Как ты считаешь, Настюха?
— Ладно, веселитесь. Я поехала.
— Не-не, погоди! Ты хоть расскажи, как живешь. Кого ждешь-то — парня или девку?
— Не знаю пока.
— А как сеструха там? Не позвонит ведь, зараза, никогда.
— А ты сам позвони. Но только трезвый. С пьяным она разговаривать не станет.
— Не станет! Больно надо мне с ней разговаривать! Я вон лучше с Тонькой поговорю, правда, Тонь? Она всегда под боком. Дурында ты моя, — ласково хлопает ее по колену, слюняво чмокает куда-то в подбородок.
Они вместе уже лет семь. Прибилась она к нему на какой-то коллективной дворовой пьянке, узнав, что у него есть где жить. Тонькин сын с самого детства в детдоме, ее давным-давно лишили родительских прав, у Паши детей вообще нет, родители его, то есть мои бабушка с дедушкой, умерли двадцать лет назад, друг за дружкой, с разницей в полгода. Все переживали, что у любимого их сына Павла нет семьи и у них только одна внучка…
Оба, и Паша, и Тонька, выходят провожать меня в коридор. В который раз поражаюсь: она выше его на голову. Дядя сжимает меня в крепких пьяных объятиях.
— Эй, поосторожнее! — вскрикиваю я, огораживая руками живот.
Тонька неожиданно берет мою руку и целует.
— Ты чего это, Тонь? — изумляется Паша.
— А то, что она кормилица наша, — всхлипывает уже изрядно поднабравшаяся женщина. — Дай и другую поцелую!
Она пытается проделать то же самое со второй моей рукой, но я вырываюсь и выскальзываю за дверь.
Соседи, как ни странно, никогда на них не жаловались. Может, потому, что Пашка за бутылку дешевой водки чинил все подряд: холодильники, телевизоры и фены, а Тонька почти полгода, пока ЖЭК не прислал уборщицу, мыла по собственной бескорыстной инициативе общественную лестницу в подъезде. Приступы хозяйственности нападали на нее внезапно, на второй-третий день безалкогольного существования, и когда я заставала ее в такие моменты, то удивлялась, сколь добропорядочный и ухоженный вид принимало их с Пашкой жилище.
Вычищенная обувь стояла в коридоре ровным рядком, кровать застилалась стареньким, в катушках, пледом, свежевыстиранные занавески приплясывали на балконе, раковина, избавленная от спуда грязной посуды, поблескивала с эмалированной гордостью, а сама хозяйка томно вышагивала по квартире в бог знает где отрытом длинном атласном халате ярко-синего цвета. Правда, был он весь в зацепках и стрелках, но Тонька держалась вальяжно, как гейша, что неотразимо действовало на Пашку. Он начинал бестолково суетиться вокруг нее и даже слегка заискивал, словно боялся, что такая женщина запросто может отказать ему.
Длилось все это благолепие не больше пяти-шести дней, потом снова с головой накрывал алкогольный шквал. А когда стихал, тянулись муторные дни, придавленные мрачным похмельем, и тупо барахтались, не в силах вспомнить свое название: понедельник, среда, суббота…
Вечером звонит муж.
— Ты не возражаешь, если я в субботу, послезавтра, приеду за вещами?
— Приезжай.
— Если тебе не трудно, собери их, пожалуйста.
— Соберу.
— Как себя чувствуешь? Что говорят врачи?
— Все в порядке.
— Ну, ладно. Тогда до субботы?
— До субботы.
— Кстати, я могу рассчитывать на твою машину?
— В каком смысле?
— Ну, вещи мои довезти…
— То есть ты хочешь, чтобы я сама привезла тебе вещи?
— Нет, если ты против, я, конечно, возьму такси.
— Даже не знаю, что и сказать на это…
В мой рассветный сон врывается вой Хвоста.
— Что ты? Что с тобой? — глажу его по голове. — Успокойся, спи.
Собака замолкает, но глаз не закрывает — тревожно и вопросительно таращится в окно. Я слышу отдаленное слабое мяуканье кошки. Его заполошно перекрикивает автомобильная сигнализация.
Из своей будки навстречу мне — Толик.
— Привет, Настена! Как делишки?
— Привет! Ничего. Как у тебя?
— Да вот, ночью Витька дежурил, говорит, какой-то старикан помер, труповозка приезжала.
— А кто?
— Да откуда я знаю? Это твой контингент.
Иду по заснеженной аллее и чувствую, как внутри набухает тревога, сгущается ощущение неотложной беды.
В вестибюле — портрет Философа Иваныча, перевязанный наискосок черной ленточкой. Под ним четыре красные гвоздики, рюмка водки, накрытая кусочком еще свежего черного хлеба.
— Во сне отошел. Сегодня ночью, — дотрагивается до моего плеча тетя Груша. — Слава тебе, Господи, не мучился… Он ведь к вам часто ходил?
— Часто.
— Похороны послезавтра. В десять утра придет автобус. Поехать могут все желающие. Ироида так решила. Представляете, у него оказалось трое детей. Кто бы мог подумать? Ведь навещал его только сын. Одна дочь, правда, живет в Ленинграде или как он там теперь называется, а другая здесь, в Москве.
Подхожу к стенду памяти. Вот он, Философ Иваныч, сидит на скамейке в своем элегантном длинном песочного цвета плаще, смотрит не в объектив, а куда-то вдаль… В октябре он подарил мне букет из кленовых листьев, они, засохшие и скрюченные, до сих пор стоят у меня в кабинете.
Как-то я спросила старика, боится ли он смерти.
— Смерть — подвиг сознания, — сказал он, — корень мер от слова мера. Умереть — значит обрести меру, гармонию с самим собой и вселенной.
— А что такое, по-вашему, мера?
— Мера — абсолютная полнота без излишества. Смерть — ощущение абсолютной полноты существования, красота бесконечной цели, вечная радость незавершенности. Помните, что говорил по этому поводу Эпикур? Его три аргумента против страха смерти? Он считал, что корень человеческих несчастий в вездесущем страхе смерти. И предлагал бороться с этим так. Душа смертна, поэтому, когда мы умрем, мы не будем осознавать этого, а следовательно, нам нечего бояться. Кроме того, раз душа смертна и в конечном итоге рассеивается, то и смерть есть ничто. А ничто не может иметь никакого значения. Согласны? И наконец — аргумент симметрии. После смерти мы погружаемся в ту же самую бездну, в которой пребывали до рождения.
— Но все это при условии, что душа смертна… Вы же так не думаете?
— А если бессмертна, тогда тем более бояться нечего. Жизнь-то будет продолжаться, только уже, возможно, на более тонком уровне.
— Интересно, — задумалась я, — почему Эпикур считал темноту до рождения менее страшной, чем после?
— Неужели не понимаете? — прищурился Философ Иваныч. — В одном случае есть возможность рождения, в другом — вряд ли.
— Логично. Однако ни то ни другое никто подтвердить не может. Мне ближе позиция американского психотерапевта-экзистенциалиста Ирвина Ялома. Он говорит о «волновом эффекте», концентрических кругах влияния. Проще говоря — круге добрых дел. Это то, что мы оставляем после себя, не важно, в какой форме, — какие-то крупицы мудрости, опыта, утешения, которые перейдут к другим людям и помогут им жить, и жить более счастливо. Я понимаю, это похоже на позицию идеалиста…
— А вы не думаете, Анастасия Александровна, что идеалисты необходимы обществу не менее и даже более, чем циники, которых предостаточно? Ведь идеалист — он кто? Тот, кто позволяет себе мечтать, несмотря ни на что. Тот, кто дерзает хотя бы мысленно изменить мир. Разве это так уж плохо?
— Это прекрасно. Но не слишком действенно. Реально-то почти ничего не меняется…
— А вот здесь я с вами не согласен. Помните про камень, брошенный в пруд? Круги-то по воде пошли…
В моем кабинете все еще звучит один из наших последних разговоров.
— Знаете, к чему нам всем необходимо стремиться? — Философ Иваныч крутил в руках статуэтку японки в кимано, несколько лет назад подаренную мне мужем.
— К тишине и одиночеству?
— К подлинности.
— Что вы имеете в виду?
— Сейчас время сплошных суррогатов. Эти все генетически модифицированные продукты питания. В искусстве — легкорастворимый, как суп из пакетика, масскульт. В чувствах людей — занятия любовью вместо самой любви.
Но, надеюсь, рано или поздно мы устанем от этой мертвечины, от этой фальши, и нам, как воздух, станет необходима подлинность. Под-лин-ность. Понимаете, о чем я?
Я понимала.
Оказалось, Федора Ивановича в «Кленах» любили многие. Желающих попрощаться набился полный автобус. К моему изумлению, поехала и Ироида.
— Вы-то зачем едете? — воззрилась она на меня.
— А вы?
— Честно говоря, я неплохо относилась к старику, — заведующая помолчала. — Он всегда делал мне комплименты. А однажды, когда еще был помоложе, помог переставить мебель в моем кабинете.
Гвоздики не пахнут, но я всю дорогу чувствовала, как в автобусе витал запах этих чопорных цветов смерти.
В гроб Федора Ивановича положили охапку бордовых роз, купленных мной.