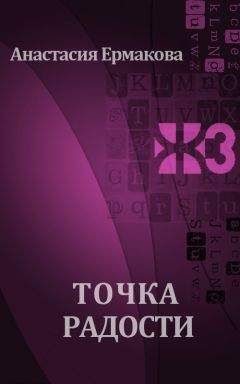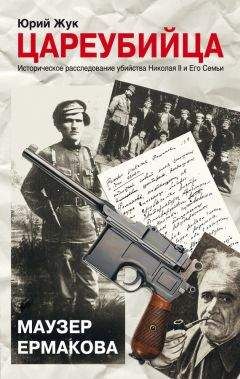— Приезжал.
— Забрал?
— Забрал.
— Ты как эхо прям. Что сказал-то?
— Ничего.
— Как — ничего? Неужели у него не екнуло?
— Наверное, нет. Попросил не вписывать его отцом.
— Вот подлец!
— Просто разлюбил.
— То есть ты его оправдываешь?
— Не оправдываю, а пытаюсь понять.
— Такое невозможно понять.
— Ну, почему же…
— Настюш, я еще раз тебя прошу: выходи за меня!
— Знаешь, мне никогда не делал предложения женатый мужчина.
— Но я же сказал, что разведусь.
— Володь, прошу тебя, не начинай все сначала. Для меня сейчас самое важное — доносить ребенка.
— Ты это потому, что я неполноценный мужчина, да?
— Перестань, Володь. Я устала и хочу спать.
— Сегодня же обо всем скажу жене.
— Не надо. И вообще, наверное, больше нам не стоит видеться.
— Но почему? Пойми — я больше не люблю ее.
Мы смотрим на мерцающие огоньки елочки — на потолке от них плавают розово-голубые зыбкие блики, слышно, как под окнами яростно газует застрявшая в плотном снеге машина.
— Разлюбить — не значит расстаться… Иди, Володь, тебе пора.
— Но хотя бы позвонить тебе можно? — спрашивает он в коридоре.
— Конечно, — целую его в гладко выбритую щеку, пахнущую хурмой.
Все уже знают, что работать мне осталось одну неделю. Потом в декрет. Дед Мороз приглашен на тридцатое декабря — мой последний рабочий день.
— Ну, как ты, голубушка, Анастасия Александровна? Отбываешь скоро? — приветствует меня тетя Груша.
Какое теплое слово — голубушка.
— Скоро, тетя Груш.
— Боишься рожать-то?
— Чуть-чуть.
— А я тряслась, помню! Ну, родила, слава богу. Гришку-то. Вырастила.
А теперь — сама знаешь. Вот как бывает…
История тети Груши известна в «Кленах» всем. Сорокасемилетний сын Гришка, неисправимый пьяница, пристрастился поколачивать мать, требуя денег. Не один год та терпела. А однажды была избита до полусмерти — еле спасли в больнице. Заявление в милицию писать не стала — как можно родного сына в тюрьму? — а попросилась жить, где работала, — в пансионате. Ироида разрешила и отвела ей коморку рядом с ведрами и швабрами, где дремали списанные топчан, стул и тумбочка. И на том спасибо. Зато — питание в столовой бесплатное.
— Гришка-то мой, знаешь… И сюда приезжать повадился. Требует, чтобы я на него квартиру отписала. Только пропьет ведь! Я уж попросила Толю с Витей не пускать его. Нет больше сил моих! Ну, дай бог, чтобы у тебя благополучно было. Обратно к нам воротишься?
— Собираюсь.
— Вот и славно.
Заглядываю к заведующей.
— Я, собственно, попрощаться.
— А, Анастасия Александровна! Проходите, проходите.
Замечаю, что сов на полках явно прибавилось — недавно у Ироиды был День рождения.
— Ну, что решили?
— В каком смысле?
— Вернетесь к нам?
— Непременно.
— Ладно-ладно, не ершитесь, я же не против. Бумаги на декретный отпуск все оформлены, зайдите потом в отдел кадров.
На заведующей новые синие кожаные шорты и голубая полупрозрачная блузка. В последнее время я несколько раз сталкивалась с выходящим из ее кабинета охранником Витей.
— Анастасия Александровна, а какой роман у мадам Марьяны с моряком! Вы заметили?
— Заметила. У вас, по-моему, тоже не все безнадежно?
— Вы излишне наблюдательны, — рассмеялась Ироида. — А что, разве женщинам средних лет любовь воспрещается?
— Женщинам средних лет она критически необходима.
— Вы тоже это понимаете?
— Конечно. Мне ведь, Ироида Евгеньевна, скоро тридцать три.
— Ах, мне бы ваши годы! Уж поверьте, я бы не потратила впустую ни одного денечка. Я бы глотала их жадно, как арбуз в жару, чтобы текло по подбородку! Вы так пробовали?
— Увы, нет. Но, пожалуй, с завтрашнего дня надо начинать.
— С сегодняшнего, милая моя, с сегодняшнего!
— Хорошо, Ироида Евгеньевна, убедили. Вот только рожу…
Кто теперь будет поливать мои фиалки? Забрать их, что ли, с собой? Одиночество делает человека незаменимым: как только он уходит, некому становится поливать цветы, кормить рыбок и выгуливать собаку.
Пытаюсь разобрать свой стол — всевозможные бумаги, прознав о моей безалаберности, вольготно, вперемешку, располагались на моем рабочем месте, быстро и нагло отвоевывая у меня территорию, и требовались недюжинные усилия, чтобы остановить бумажный натиск, заставить эти пыльные хаотичные груды преобразоваться в разумные стопочки аккуратно сложенных листков, подчиненных призрачному порядку.
Кропотливое и нудное это занятие выматывало больше, чем если бы я, вооружившись тети Грушиной шваброй, прошлась бы по всем трем этажам. Хотя чужой труд всегда кажется легче. Как и чужая боль.
Негромкий стук в дверь — заходит Юрий Андреевич.
— Ситуация, Анастасия Александровна, в мире напряженная, — с порога заявляет он, — весь мир против России ополчился! А почему? А потому, что Россия — великая, благословенная страна! Америка-то что — тьфу! Совести у нее совсем нет.
— Юрий Андреевич, согласитесь, американская совесть звучит примерно так же, как французская щедрость или немецкая бесшабашность. Что же вы хотите?
— Чтобы политика была честной!
— Это что — новый анекдот?
Юрий Андреевич расхохотался:
— Опять меня понесло!
— И тут Остапа понесло…
— Вот именно. Люблю этот фильм.
— Я тоже.
— А еще люблю про войну. Вашему поколению, наверное, не очень-то интересно.
— Зря вы так думаете. Например, «Завтра была война» — один из моих любимых фильмов. Знаете, что есть ценного в советских фильмах о войне? Простодушный искренний героизм. Подлинный, как сказал бы Философ Иваныч. После таких фильмов хочется жить. И жить чище.
— У меня отец на войне погиб… Герой. Мать так больше замуж и не вышла, не хотела осквернять память мужа. А мы, я и младший брат, выросли без отца. И без отчима. Как вы считаете, мать правильно поступила?
— Разве я могу судить об этом, Юрий Андреевич? И вы не можете.
— Да я и не сужу. Просто думаю, никто не знает, как правильно надо жить. Никто. Вот вы, знаете?
— Честно? Нет.
— То-то и оно. Живем-живем, а ведь в любой момент война пострашнее Великой Отечественной начаться может — ядерная…
— Юрий Андреевич, нельзя такие страшные вещи говорить беременной женщине!
— Ой, вот дурак-то старый! Я ведь зашел попрощаться. Знаю-знаю, что вы по материнскому делу собираетесь. Скоро?
— Через два месяца.
— Да? Жаль. Я хотел сказать — жаль, что уходите. Все тут к вам привыкли. Мы же сюда зачем приходим? Выговориться. Кто нас еще, нудных стариков, слушать станет? Ведь вам ничего не надо делать — просто выслушать.
Ну, как говорится, желаю всего самого-самого… В добрый путь!
Зашли и моряк с мадам Марьяной — они теперь почти не расставались. Смущались, как школьники, полюбившие впервые. Благодарили непонятно за что, перебивая и нежно сердясь друг на друга. Кончилось тем, что моряк на прощанье поцеловал мне руку, а мадам Марьяна пихнула коробочку «Помадки».
Больше всего поразила Евсюха: вместо грязного тряпья на ней были чистые выглаженные вещи. Поделилась радостью: дочь закодировалась, не пьет, устроилась на работу и теперь часто навещает мать. Только вот ведь горе-то какое — Патриарх умер…
Лиля с физруком отличились: преподнесли пластмассового Деда Мороза с выпученными глазами. Внутренности его состояли из всевозможных шоколадно-карамельных сладостей. Был и один мандарин, положенный, вероятно, для веса.
Анна Викторовна принесла гигантских размеров «Аленку» и пожелала, чтобы моя дочь была такой же хорошенькой, как девочка на картинке.
— А если будет сын? — спросила я.
— Будет дочка, — заверила она меня. — По форме живота вижу. Я еще ни разу не ошибалась.
На предновогодней вечеринке Ироида отличилась: напялила длинные заячьи уши, вероятно, для того, чтобы вызвать у стариков прилив детского восторга. Уже довольно внушительный живот сдержал мое разнузданное воображение в выборе одежды: пришлось облачиться в широкий и длинный голубой балахон. Будь он черного цвета, я напоминала бы согрешившую монахиню. Лиля красовалась в очень шедшем ей бордовом брючном костюме с золотыми пуговицами. Светлана Сергеевна — в строгом темно-синем платье с приколотым к нему букетиком искусственных незабудок. Евсюха нарядилась в белую и, главное, чистую блузку и коричневую бархатную юбку. Мадам Марьяна сразила всех новой шляпкой — большое блюдо с тусклыми, будто пыльными фруктами. Но моряка, похоже, не раздражало. Он что-то шептал своей даме на ухо, а та, свысока оглядывая других женщин, тихонько посмеивалась.
Дед Мороз явился сильно навеселе. Нарумяненный нос, выцветший кафтан. Борода и бакенбарды свалялись и имели нездоровый желтоватый оттенок. Сказочный персонаж выглядел уставшим и помятым, словно его после многолетнего забытья извлекли наконец из сундука и заставили исполнять надоевшую роль.