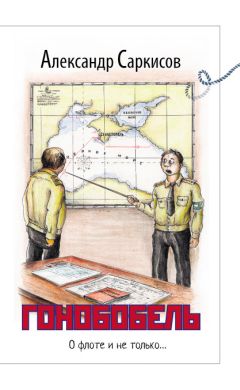Через час концерта на воде репертуар баяниста приблизился к репертуару ансамбля «Морская душа», и Дед запел – «Растаял в далеком тумане Рыбачий…». Постепенно на берегу собралась группа зрителей, активно участвовавших в происходящем. С берега доносилось:
– Про Севастополь давай!
Петр Сергеич летал пальцами по кнопочкам, как будто они были без костей, изрядно поддавший Дед старательно выводил – «…Севастополь, Севастополь, город русских моряков…». Шпак, Морев и Доктор пытались подпевать нестройным хором.
Доктор пил мало и хмелел быстро, во время очередного перерыва на тост он попросил сыграть народную песню «У церкви стояла карета». Кроме Доктора слов никто не знал, и он звездил, пел старательно, с подвыванием, так пел, что очки запотели, – «…Горели венчальные свечи, невеста печальна была…» Исполнение было встречено бурными аплодисментами и на берегу, и на ялике.
Потом были «Яблочко», «Белый пароход», «Морская душа», «Раскинулось море широко» и много других красивых песен о море и моряках, пока Дед не осип. Отдыхали душевно – и напелись, и напились, нахохотались и наговорились на год вперед.
Напоследок спели «Варяга», как водится, хором и стоя.
Баянисту дали передых, Дед с жалостью, от сердца спросил:
– Хороший ты человек, Сергеич, жаль, что слепой. Как ты, бедолага, с этим живешь, все время в темноте?
– Да, мой мир черный, но я привык, и мне в нем хорошо. Мой мир без цветов, зато он полон запахов и звуков. И не нужно меня жалеть, я могу то, что недоступно вам. Единственное, что меня все время волнует, – страх падения. Это состояние трудно объяснить, как будто ты всю жизнь ходишь по краю пропасти и в любой момент можешь ощутить бездну под ногами.
Он был так искренен, что у Доктора по щекам покатились слезы, щемило гадкое чувство, казалось, что каждый из присутствующих виноват уже тем, что зряч.
Гросс-адмирал нарушил тягостное молчание:
– Ну что, по последней и возвращаемся.
Баяниста развезло, Доктор помог ему снять инструмент и аккуратно уложил его в футляр. Дед налил по трети стакана и струганул сыра с колбаской. Доктор протянул музыканту стакан, тот, пьяно покачивая головой, возмутился:
– Ты чего это, давай полный наливай!
Все молча уставились на Петра Сергеича, тот хоть и был нетрезв, но все же понял, что лопухнулся. Гросс-адмирал вплотную придвинулся к нему и взял за грудки.
– Ах ты, сука, кот Базилио недоделанный, утоплю. А ну снимай с него жилет!
Говорил спокойно, без истерики, и стало ясно – сейчас утопит. Шпак деловито стаскивал с баяниста спасательный жилет.
– Вот падла, а я его жалел.
Сергеич, поняв, что здесь не шутят, взмолился:
– Да вы что, мужики?! Я ж артист, это у меня такой сценический образ.
Шпак убрал в форпик снятый с баяниста жилет.
– Ничего, гад, сейчас образ Муму репетировать будем.
Маэстро трухнул не на шутку, упал на колени и каялся:
– Ну виноват, простите! В конце концов, я же к вам не впередсмотрящим нанимался! Отработал честно, а оплату можно и по зрячему прейскуранту.
Гросс-адмирал смягчился, не портить же праздник, в самом деле.
– Ладно, живи пока, Паганини хренов.
Почему он помянул Паганини, было непонятно, но в его устах это явно звучало как ругательство. Что ни говори, а на Причале отдыхать умели, всегда было что вспомнить.
Откровение Павла Сквернослова
Павел Петрович Бах был человеком, мягко говоря, непростым, о таких обычно говорят «с ним не похристосуешься». Мезальянс его богатого внутреннего мира и настораживающей внешности был вызывающим, и в разных ситуациях Петрович воспринимался по-разному – от бомжа-кликуши до философа, записывать за которым не постеснялись бы и Бердяев с Флоренским.
Но были две вещи, которые он делал, независимо от обстоятельств, всегда и везде, – курил и ругался. Он не мог ругаться заочно, только глаза в глаза, и если рядом не было homo sapiens, способного достойно оценить виртуозность и глубину изрыгаемого, он на голубом глазу материл рыбу за то, что заглотила крючок, дерево за то, что выросло не там и мешает, двигатель за то, что не заводится, даже когда он трепал за ухом и нахваливал жившую при нем маленькую лохматую сученку по кличке Жужа, казалось, что он делает ей последнее предупреждение. Близко знающие его люди могли предположить – первое, что он сделал, покинув материнское лоно, так это закурил и послал куда подальше акушера.
Петрович, готовый взорваться в любую минуту, гордым орлом восседал на кормовой банке ялика, поджидая опаздывающих Морева со Шпаком. Первым появился Морев и, даже не думая оправдываться, получил порцию выстраданного негодования. Следом появился Шпак, и Павел Петрович переключился на него.
Завели двигатель, и пламенное дрючево Петровича потонуло в спасительном тарахтенье, направляемый опытной рукой, ялик заскользил на выход из бухты. Петрович успокоился и закурил.
Когда ялик был уже на приличном расстоянии от берега, он начал крутить головой и жадно хватать ноздрями воздух, потом свесился за борт и что-то пристально рассматривал в воде.
– Все, пришли, подвески ставьте на луфаря.
Петрович заглушил двигатель и положил ялик в дрейф. Через пару минут, дружно треща катушками, они вытащили первых луфарей.
– Ну, Петрович, ты просто волшебник!
Заканчивалось время утренних сумерек, вскрылись рассветные вены, и первые брызги солнечных лучей подожгли золотой купол Владимирского собора, свет от которого медленно разливался по всему Херсонесу. Морев невольно перекрестился.
– Красотища-то какая неземная.
Наблюдая за молодежью, обильно осеняющей себя крестным знамением, Петрович с выражением глубокого личного горя на лице и с искренним отчаянием в голосе выдохнул:
– Эх, славяне, такую религию просрали!
– Петрович, ты это чего?
– А ничего! Бьетесь лбами об алтарь, креститесь, а Библию хоть раз от начала до конца прочли?!
Морев неуверенно промычал:
– Ну читали.
– Вот именно, что «ну»!
Он злобно зыркнул в сторону Шпака.
– А ты, шалопут? Есть хоть одна заповедь, которую ты не нарушил?
Шпак напрягся, поскреб макушку, потом с облегчением выдохнул и, смущенно улыбаясь, промямлил:
– Есть – «не убий».
– Ну хоть что-то. Прочувствуйте вы, дурьи головы, – Бог не в церкви, туда ходить – только душу поганить. Бог в нас, в природе, а попы и сами не знают, чего городют. Вон сколь христиан развелось, и католики, и протестанты, и православные, какие-то нехалкидонские церкви. Хрен их разберет, и главное, спорют чуть не до драки, догматы у них, вишь, не совпадают. Я вам так скажу, вера – она или есть, или ее нет, а как ты, грешный, крестишься – справа налево или наоборот, не суть, и когда ее религией подменяют и на коммерческие рельсы ставят – тогда все, конец. Это ж надо, Льва Николаевича Толстого сиволапые от церкви отлучили!
Петрович ловким щелчком бросил за борт окурок и закурил новую сигарету.
– Мир с ума сошел, людей в животных превращают, общество потребления, мать его, историю переврали, а как без корней жить? Вот недавно выяснилось, что люди произошли от древних укров. Спасибо, просветили. Но ведь пройдет лет десять, пятнадцать, и вырастут дети, которым эту хрень преподают, и будут они в это верить и потом детей своих этому научат. И не только хохлы чудят, и мы свою историю переговняли напрочь, вон один умный германец сказал, что немцы – это бельгийцы с манией величия, а пруссаки это – славяне, забывшие, кем были их деды.
Морев снял с крючка очередную рыбу и бросил в садок.
– Ну ты, Петрович, даешь! А корейцы, значит, – это китайцы, которые думают, что они японцы?
– А ты вообще молчи! Ты родословную своей собаки знаешь лучше, чем свою собственную. Как вы все живете? На работе воруете, врете по поводу и без повода.
Презрительно скривив рот, он махнул рукой в сторону Шпака:
– По бабам шляетесь.
Шпак обернулся к нему вполоборота:
– А чего сразу я? Я рыбу ловлю.
Петрович безнадежно покачал головой:
– Господи, кому я все это толкую? Вы ж про людей хорошее только на кладбище говорите…
Дальше пошел винегрет из ведической традиции, учения великого индуса Ошо и богатого жизненного опыта Петровича, слегка приправленный христианским учением. Между тем садки наполнялись отборным луфарем, а радости почему-то не было.
Через полчаса наводная проповедь Павла Петровича подошла к концу.
– Да поймите же вы, наконец, самое ценное, что Бог дал человеку, – это жизнь, и тратить ее на то, чтобы изучать, как правильно переходить дорогу, – идиотизм! Тратить на то, чтоб большим начальником стать – идиотизм! Тратить на то, чтоб дом полной чашей, – идиотизм! Это же с самого детства вся жизнь из-под палки. Да разве это жизнь? Посмотрите на меня, нет у меня ни хрена, а я счастлив, потому как делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Попомните меня, если торгашам окорот не дать, если и дальше они будут тон жизни задавать – всем кирдык настанет, и Причалу нашему тоже. Нет у них внутреннего тормоза, краев они не видят. Вы когда-нибудь видели, чтоб я рыбы ловил больше, чем съесть могу? То-то и оно, а этим волю дай, в море и водорослей не останется.