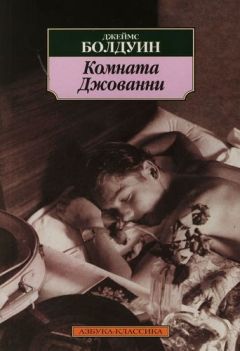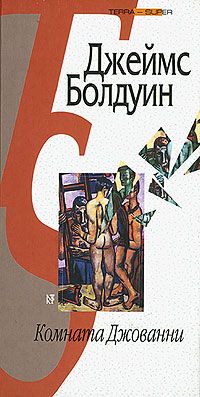Понемногу мы успокоились, умолкли и заснули. Проснулись около трёх или четырёх часов, когда тусклое солнце заглянуло в странные углы этой захламленной комнаты. Встали, умылись и побрились, толкая друг друга, обмениваясь шуточками и сгорая от невысказанного желания поскорее убраться из этой комнаты. Потом мы выскользнули на улицу, в Париж, наспех где-то перекусили, и я расстался с Джованни у дверей бара Гийома.
Потом, оставшись один и испытывая от этого облегчение, мог пойти в кино, гулять, или вернуться домой и читать, или же устроиться с книгой на скамейке парка, посидеть за столиком перед кафе, поболтать с кем-нибудь или сесть писать письма, Я писал Хелле, ни о чём ей не рассказывая, или отцу, прося его прислать денег. Вне зависимости от того, что я делал, другой человек пробуждался в моей шкуре, до смерти напуганный тем, что творилось в его жизни.
Джованни вызвал во мне какой-то зуд, растеребил нечто, что грызло меня изнутри. Я осознал это для себя как-то днём, провожая его на работу по бульвару Монпарнас. Мы купили килограмм черешни и ели её по дороге. Вели мы себя в тот день откровенно ребячливо и были в отличном настроении, но зрелище, которое мы собой представляли (взрослые люди, толкающие друг друга на широком тротуаре и плюющие друг другу в лицо черешневыми косточками), должно было быть вызывающим. Я понимал, что подобное мальчишество – это фантастика в моём возрасте, но ещё фантастичнее было то счастье, из которого оно выплеснулось. За это я действительно любил Джованни, который, казалось, никогда ещё не был так красив, как в тот день. Вглядываясь в его лицо, я ощущал, как много для меня значило, что я могу его сделать таким сияющим. Я знал, что многое готов отдать, чтобы не потерять эту власть. Я почувствовал, что устремляюсь к нему всем своим существом, как несётся ломающая лёд река. Но в этот самый момент между нами прошёл по тротуару незнакомый парень, и всё, что я испытывал по отношению к красоте Джованни, я тут же испытал и к нему. Джованни увидел это, прочёл на моём лице, и это ещё больше его рассмешило. Я покраснел, а он продолжал заливаться смехом, и тогда этот бульвар, свет дня и его хохот превратили происходящее в настоящий кошмар. Я уставился на деревья, листья, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Мне стало грустно, стыдно, страшно и горько. Но в то же время (это было частью моей муки и одновременно не касалось её) я почувствовал, как у меня напрягаются мышцы шеи, чтобы не оглянуться и не посмотреть вслед удалявшемуся вдоль блестящего бульвара парню. Чудовище, которое пробудил во мне Джованни, теперь уже никогда не уснёт. Но ведь когда-нибудь Джованни уже не будет со мной. Стану ли я тогда, как некоторые, оглядываться и бежать за каждым смазливым парнем вдоль бог знает каких тёмных авеню, заводящих в какие-то тёмные места?
Это жуткое предположение родило во мне ненависть к Джованни – такую же глубокую, как моя любовь к нему, и питаемую теми же корнями.
Не могу придумать, как описать эту комнату. В каком-то смысле все комнаты, в которых мне приходилось когда-либо бывать, и все, в которых ещё придётся, будут напоминать мне комнату Джованни. Я прожил в ней не так уж долго – мы встретились перед самой весной, а летом я ушёл оттуда, – но мне всё равно кажется, что я провёл там целую жизнь. Жизнь в этой комнате, казалось, происходила под водой, и, несомненно, я претерпел там какие-то подводные видоизменения.
Для начала скажу, что комната была слишком мала для двоих и выходила окнами в маленький внутренний двор. «Выходила» означает, что там было два окна, на которые этот двор недоброжелательно напирал, проникая к нам день за днём всё глубже, как будто принимая себя за джунгли. Мы – или, вернее, Джованни – держали окна почти всегда закрытыми. У него никогда не было штор, не появились они и при мне. Чтобы оградиться от нескромных взглядов, он густо замазал стёкла белой пастой для чистки эмали. Иногда к нам доносились голоса играющих под окнами детей, иногда на них вырисовывались странные силуэты. В такие минуты Джованни, занимаясь чем-то в комнате или лёжа на кровати, напрягался, как охотничья собака, и хранил полное молчание до тех пор, пока нечто, угрожающее нашей безопасности, не удалялось прочь.
Он всегда был полон грандиозных планов ремонта комнаты и уже принялся за него до моего появления там. Одна из стен была грязной, с белыми пятнами на тех местах, где он содрал обои. Стену напротив никогда не следовало обнажать: дама в платье с кринолином и господин в бриджах непрерывно прогуливались на ней, окаймлённые розами. Обои большими отрезками и в рулонах лежали в пыли на полу. На полу же валялись наши нестиранные вещи рядом с инструментами Джованни, кистями, банками с краской и бутылками со скипидаром. Наши чемоданы еле держались на горе какого-то хлама, так что мы всегда опасались их открывать и иногда по нескольку дней обходились без таких необходимых мелочей, как чистые носки.
Никто никогда к нам не приходил, кроме Жака, да и тот бывал нечасто. Мы жили далеко от центра, и у нас не было телефона.
Помню, как я впервые проснулся там после полудня рядом с Джованни, быстро уснувшим и тяжёлым, как упавшая скала. Свет проникал в комнату так слабо, что я с беспокойством подумал о времени. Потихоньку, чтобы не разбудить Джованни, я закурил сигарету. Я ещё не знал, как посмотрю ему в глаза. Я осмотрелся. Джованни что-то говорил в такси о том, что в комнате очень грязно. «Не сомневаюсь», – откликнулся я и отвернулся к окну. Потом мы ехали молча. Когда я проснулся в его комнате, то вспомнил, что это молчание носило напряжённый и болезненный характер. Оно было прервано робкой и горькой улыбкой Джованни, сказавшего: «Я должен найти какой-то поэтический образ».
И он растопырил свои сильные пальцы в воздухе так, будто хотел поймать метафору. Я наблюдал за ним.
– Посмотри на этот мусор, – сказал он наконец и указал пальцем на проплывающую мимо улицу, – весь мусор этого города. Куда они всё это девают? Точно не знаю куда, но вполне возможно, что сваливают в мою комнату.
– Более вероятно, – ответил я, – что сбрасывают в Сену.
Но когда я проснулся и огляделся в комнате, то почувствовал всю браваду и малодушие найденного им образа. Это был не мусор Парижа, поскольку мусор безличен, – это была жизнь Джованни, которой его вырвало.
Передо мной, по сторонам и повсюду в комнате стеной высились картонные и оклеенные кожей коробки и ящики, одни из которых были перевязаны верёвкой, другие закрыты на замок, третьи сломаны, а из самой верхней коробки сыпались нотные листы скрипичной музыки. В комнате была скрипка; она лежала на столе в покоробленном и потрескавшемся футляре. Глядя на неё, нельзя было определить, была ли она оставлена здесь вчера или сто лет назад. Стол был завален пожелтевшими газетами, заставлен пустыми бутылками. На нём лежала одна коричневая сморщенная картофелина, у которой даже белые ростки давно сгнили. На полу было разлито красное вино, которое подсохло, отчего воздух в комнате стал сладким и спёртым. Но самым страшным в комнате был не этот беспорядок, а то, что если начать искать в этом завале ключи, то ясно, что их не найти ни в одном из наиболее вероятных мест. Поскольку дело здесь было не в привычках, обстоятельствах или свойствах характера – дело было в наказании и скорби. Не знаю, как я это понял, но понял сразу. Возможно, понял потому, что хотел жить. И я впился в эту комнату взглядом с тем нервным и расчётливым напряжением ума и всех сил, которое возникает, когда взвешивают неизбежную и смертельную опасность, – в глухие стены с отдалёнными архаическими влюблёнными, заключёнными в ловушку бесконечного розового сада, в вылупившиеся окна, вылупившиеся, как два огромных глаза из льда и пламени, в потолок, нависавший, как тучи, из которых иногда говорили демоны, и тщетно старавшийся затуманить и смягчить свою недоброжелательность жёлтым светом лампочки, что свисала, как болезненный и расплывчатый половой член, посредине. Под его тупоголовой стрелой, под этим растоптанным цветком света громоздился весь тот ужас, что заключал в себе душу Джованни. Я понял, почему он стремился привести меня и привёл в своё последнее убежище. Я должен был уничтожить эту комнату и дать Джованни новую, лучшую жизнь. Эта жизнь могла быть лишь моей собственной, которая, для того чтобы преобразить жизнь Джованни, должна была сначала стать неотъемлемой частью этой комнаты.
Сначала – поскольку причины, приведшие меня в комнату Джованни, были так разнородны и имели так мало общего с его надеждами и желаниями и поскольку они уходили корнями в моё собственное отчаяние – я придумал развлечение: разыгрывать из себя домохозяйку, когда он уходил на работу. Я выбросил обои, бутылки, фантастические горы мусора, я исследовал содержимое бесчисленных коробок и чемоданов и избавился от них. Но я не домохозяйка: мужчинам никогда с этим не справиться. И я не получал от этого настоящего удовольствия, несмотря на покорную и благодарную улыбку Джованни, твердившего мне на сотни ладов, как это прекрасно, что мы вместе и что я своей любовью, своей изобретательной заботой заслоняю его от тьмы. День за днём он старался показать мне, как он изменился, как его преобразила любовь, как он работает, поёт и лелеет меня. Я пребывал в полном замешательстве. Иногда я думал: это и есть твоя жизнь. Брось ей сопротивляться. Прекрати борьбу. Или же я думал о том, что счастлив: он любит меня, я в безопасности. Иногда, когда его не было рядом, я думал, что никогда больше не позволю ему дотронуться до меня. Потом, когда он дотрагивался, я думал, что это не важно, что это лишь тело и через несколько мгновений всё будет кончено. Когда же это было кончено, я лежал в темноте, слушал его дыхание и мечтал о прикосновении рук, его рук или чьих угодно рук, тех, в чьей власти будет раздавить и сотворить меня снова.