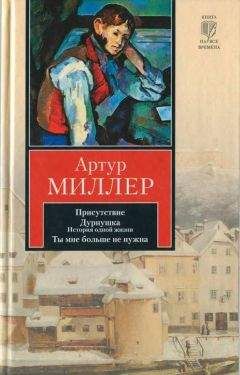После того как он помог Кэрол вытереться насухо, она влезла в свои трусики, надела и застегнула лифчик и блузку и натянула юбку, он присел к столу, открыл ящик и достал оттуда чековую книжку. Но она тут же схватила его за запястье.
— Все в порядке, — сказала она. Ее влажные волосы еще несли память об их близости, о том, что он что-то в ней изменил.
— Но я хочу тебе заплатить.
— Не сегодня. — По ее лицу скользнуло застенчивое выражение — она словно бы пожалела о своем, может быть, непреднамеренном предложении и желании прийти сюда снова. — Может быть, в другой раз, если ты захочешь, чтоб я еще пришла. — И тут ее как будто поразила и испугала какая-то мысль: — Или не захочешь? То есть… ты ведь уже все сделал, да? — К ней возвращалась ее прежняя порывистость. — Я хочу сказать, нельзя же дважды проделать то, что делается в первый раз, верно? — Она тихонько засмеялась, но в ее глазах было умоляющее выражение.
Он встал и подошел к ней, чтобы поцеловать на прощание, но она чуть отвернулась, и поцелуй попал в щеку.
— Наверное, ты права, — сказал он.
Теперь в ее лице появилась жесткость.
— Тогда, знаешь, я, наверное, возьму эти деньги.
— Хорошо, — сказал он. Надо реально смотреть на вещи, это всегда приносит облегчение, подумал он. Только почему это должно сопровождаться озлоблением? Он присел к столу и заполнил чек, после чего, немного стыдясь, протянул ей.
Она сложила чек и сунула в сумочку.
— Ну и денек выдался, правда? — вскричала она и выдала свое лошадиное ржание, напугав его, — она ни разу не засмеялась так после первых минут их знакомства. Теперь она вернется к своей охоте на оленей, подумал он, к своим утомительным походам сквозь тундру. После того как высунула голову из убежища, чтобы самоутвердиться хоть на минутку, она снова уберется в свою норку.
Когда Кэрол ушла, он сел к столу, положив перед собой рукопись. Восемнадцать страниц. Рассеянный взгляд в пространство, свежевымытое тело и израсходованная энергия помогли ему сейчас как будто очистить мозги от всего постороннего и приподняться над собой. Он положил ладонь на стопку бумаги и задумался. «Я зашел за черту здравомыслия, — думал он, — так что лучше бы все это дало какой-то результат». Он потер глаза и начал читать рассказ, когда издалека, снизу донесся стук закрывшейся двери. Лина вернулась. Она дома, с этим своим лицом, испещренным глубокими морщинами, словно перезрелый, иссохший перец, с опущенными углами губ, с плоской грудью, с этим ненавистным запахом никотина. Он снова начал злиться, наполняясь ненавистью к этой ее упрямой потребности в самоуничтожении.
Вернувшись к рассказу, прочитав и перечитав его, он ужасно удивился тому, что тот горячий поток сочувствия и любви к ней даже сейчас все еще ощущается у него в душе, словно это написал очень юный и никому не известный человек, человек, заключенный в него самого, свободный поэт, чей дух так же реален и убедителен, как волны моря. А что, если превратить рассказ в нечто вроде пеана, в хвалебную песнь в ее честь, в честь той, какой она когда-то была? Интересно, узнает она себя, примирится ли тогда со своей судьбой? Читая, он осознавал, какой прелестной, какой вдохновенно-поэтической она по-прежнему оставалась в неких глубоко запрятанных уголках его души, и вспоминал, как радостно ему было просто просыпаться рядом с нею по утрам, как это наполняло его ощущением счастья и придавало смысл его жизни. Оторвав взгляд от рукописи и уставившись на голые крыши за окном, он почувствовал болезненный укол, вспомнив о Кэрол, чье юное присутствие все еще яростно звучало в комнате, и ему захотелось, чтобы она вернулась, пусть всего один раз, чтобы он снова мог писать на ее туго обтягивающей тело коже и, возможно, извлечь из себя еще какую-нибудь невинную штуку, которая может сейчас таиться, дрожа в нетерпении, где-то у него внутри, некое воспоминание о былой любви, которое так боится выбраться наружу, что, кажется, вообще исчезло. Исчезло, забрав с собой его талант, его искусство.
Та зима в начале пятидесятых выдалась в Нью-Йорке необычайно холодной, во всяком случае, так казалось Левину. Если, конечно, не думать, что он в свои тридцать девять уже преждевременно состарился — что вообще-то ему втайне нравилось. Впервые в жизни он действительно страстно желал убраться отсюда куда-то поближе к солнцу, так что когда Джимми П., весь загорелый, вернулся из поездки на Гаити, он с более чем просто социологическим интересом слушал его захлебывающиеся рассказы о новых демократических веяниях, охватывающих страну. Левин, несколько опережая свое время, уже начал сомневаться, что политика реально меняет поведение людей к лучшему, и, помимо занятий бизнесом, обратил все внимание на музыку и несколько достойных внимания книг. Но даже в прошлом, когда он был больше связан с политикой, он никогда особенно не доверял восторженному энтузиазму Джимми, хотя его и согревало наивное уважение, которое тот питал к нему. Бывший борец, выступавший за команду университета Колгейт, со сплющенным носом, покатыми плечами, вечно шепелявящий, Джимми был восторженным приверженцем коммунистических идей, преклонялся перед талантливыми людьми, многим из которых служил в качестве агента по связям с прессой; он также боготворил Сталина и вообще любого деятеля, который выказывал вызывающее пренебрежение по отношению ко всем и любым принятым и почитаемым всеми правилам, которые по воле случая оказались на данный момент в ходу. Бунт, по мнению Джимми, имел поэтическую подоплеку. В день его семилетия его героический папаша поцеловал сынка в макушку и отправился принимать участие в революционных событиях в Боливии, да так никогда окончательно и не вернулся оттуда, если не считать нескольких неожиданных приездов на пару недель, пока окончательно не исчез, уже навсегда. Но в мозгах Джимми, вероятно, все еще болтались ископаемые остатки и обрывки былых надежд на возвращение папаши, подпитывая его собственные идолопоклоннические настроения. Что его восхищало в Марке Левине, так это смелость последнего, с которой тот бросил работу в «Трибюн», чтобы возглавить скучный кожевенный бизнес своего отца, дабы не декларировать прописные истины, пропитанные этой нынешней антирусской воинственностью, чего от него требовали. Правда же, однако, заключалась в том, что мысли Левина были тогда целиком заняты Марселем Прустом. В последний год или около того книги Пруста вытеснили из его дум почти все остальное, за исключением его музыки, его обожаемой воинственной жены Адели и умиротворяющей ипохондрии. Гаити, по мнению Левина и Адели, был чем-то вроде обратной стороны Луны. Все, что они знали об этом острове, было почерпнуто из журнала «Нэшнл джиогрэфик», читанного в приемной дантиста, и из фотосъемок карнавалов, где фигурировали дикие на вид женщины, иногда поразительно красивые, танцующие на улицах, а также сцены культа Вуду. Но по утверждению Джимми, в этой стране, которой в течение многих поколений правили нож и револьвер, ныне имел место необъяснимо мощный всплеск художественной активности, выражавшийся в появлении замечательных произведений живописи и литературы, напоминающий взрыв долго подавляемых сил природы. Старая приятельница Джимми, бывшая журналистка из «Нью-Йорк пост» Лили О'Дуайер, была бы весьма рада принять Левинов у себя; она перебралась туда, чтобы жить рядом со своей сбежавшей из Штатов матерью, и знала там всех, особенно только что появившихся молодых художников и интеллектуалов, которые старались успеть выплеснуть как можно больше инсинуаций по адресу леводемократических реформ, прежде чем их убьют или вышлют из страны. Перед последними выборами кандидата от оппозиции вместе с женой и четырьмя детьми неизвестные личности изрубили мачете прямо в его собственном доме, в гостиной первого этажа.
Левины очень хотели туда съездить. Их последний зимний отпуск — бесконечно тянувшиеся и никак не кончавшиеся пять дней на берегу Карибского моря — заставил их заречься никогда более не опускаться до столь безмозглого потакания собственным слабостям, но эта поездка обещала стать совсем другой. Левины были людьми серьезными; в ту эпоху, еще до того, как иностранные фильмы начали выходить в Нью-Йорке в широкий прокат, они частенько присоединялись к компаниям, предпочитавшим демонстрировать эти ленты в собственных гостиных; Марк был особенно без ума от французских и итальянских лент. И он, и его жена были пианистами, превосходными исполнителями классической музыки; они и встретились-то впервые дома у их преподавателя музыки — она приехала на урок, когда он уже закончил свой и собирался уходить; и их тут же привлек друг к другу необычайно высокий рост обоих. Марк был шести футов и четырех дюймов, Адель — ровно шести футов; составив пару, они смогли наконец отделаться от ощущения, что являются результатом какой-то деформации, хотя нотка иронии на этот счет нередко появлялась в их речах. Марк любил повторять: «Наконец-то я встретил девушку, которой могу смотреть прямо в глаза, не приседая при этом».