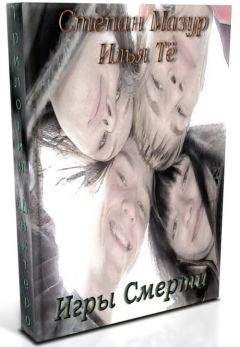Танец его завершился странными манипуляциями с газетой. Вначале я испугалась, что он решил развести костер, что-то типа приношения в жертву девственницы — вакханалия так вакханалия, всерьез.
— Что ты делаешь? — довольно испуганно спросила я с кровати.
— Подстилаю газету, — ответил он, не прерывая своего занятия.
— Зачем?
— Я тебя трахну, и у тебя пойдет кровь. Ты мне всю кровать перепачкаешь. Так вот, когда я кончу, ты сразу вскакивай и вставай на газеты. Поняла?
— Нет.
— Ну что непонятного? Крови у тебя будет очень много. Просто водопад крови из пиздищи. Здесь, блин, все в кровище будет. Я уже один раз менял кровать, больше не хочу. Поэтому, говорю по опыту, сразу прыгай на газеты. Все на них выльется, мы их потом спокойно выбросим. Теперь поняла?
Ну что ты будешь делать с таким человеком? Вначале он тебя, как вакханку юную, несет на руках на глазах у изумленной публики, а потом вот так деловито заставляет прыгать на газетку, как мартышку какую-нибудь.
— Давай попробуй. Надо отрепетировать. Вот так — быстро вскакиваешь с кровати и становишься прямо на газету. Видишь, у тебя все получается. А теперь иди сюда…
В этот раз все было не так, как накануне. Было очень больно, по-настоящему, так, что я не могла сдержать крика.
— Господи, Сереженька, пожалуйста, не так сильно. Мне больно.
— Да я еле двигаюсь. Ты просто расслабься, и все будет хорошо.
И он целовал меня, обнимал, кусал за мочку и шею, прикусывал соски, засовывал язык в ухо, боль отступала, и становилось невероятно, неправдоподобно хорошо, и я опять не могла сдержаться и кричала.
— Потише! Что ты так орешь! Ведь люди все слышат.
— О господи! Господи! Что же это такое?!
Он снова задвигался сильнее, и опять боль стала невыносимой. Мне казалось, что он вот-вот разорвет меня напополам. Чтобы не кричать, я вцепилась зубами в его руку и только стонала. Наконец он замер и повалился на меня всей своей тяжестью, громко отдуваясь.
— Ты мне руку прокусила.
— А ты меня всю порвал.
— Я старался. Ой, что же это я? Давай, прыгай скорее на газету! — и он столкнул меня с кровати.
Я стояла на газете и смотрела вниз. Он тоже смотрел в ожидании. Время шло. Крови не было. Он проверил простыню, там тоже никаких кровавых следов не было.
— Так ты меня наебала? Никакая ты не девственница.
— Девственница. Может, ты просто не порвал девственную плеву?
— У меня не самый короткий. Если бы она там была, я бы ее порвал.
— Я проходила по анатомии, когда училась в медучилище, что не у всех женщин она есть.
— Ну и черт с ней. Меньше грязи, — он откинулся на подушку.
Мне хотелось обнять его, поцеловать, сказать, что я люблю его так, что мне трудно дышать и хочется плакать. Но он уже отстранился, отгородился от меня эмоционально. Я легла рядом с ним, и все, что было у меня на душе, сказала про себя.
На следующий день он не позвонил, не позвонил и через два дня. Прошло пять дней, десять — он не объявлялся. Раньше, читая про муки любви, я относилась к ним с большой долей цинизма. Все эти страдания казались мне высосанными из пальца. Я не верила, что человеку, наделенному гордостью и чувством собственного достоинства, Может не хватить силы воли, чтобы держать себя в руках. За глупость и высокомерие и расплата! Когда родители, при которых я еще как-то из последних сил держалась, уходили, я выла и каталась по полу. Боль в груди была совершенно реальной, ощутимой. И она была нестерпима. Я всю себя исцарапала, пытаясь как-то ее унять. Говорят, что при сильной, страстной влюбленности в организме образуются химические соединения, сходные с теми, которые возникают от употребления наркотиков, скажем, героина. И когда человека отлучают от объекта его любви, в организме начинаются физические процессы, похожие на ломку у наркоманов, отлученных от наркотиков. То есть муки не только душевные, но и вполне физические.
Я вспоминала все наши счастливые моменты, восстанавливала в мельчайших деталях его лицо, улыбку, близорукий рассеянный взгляд его зеленых глаз, когда я снимала с него очки. Труднее всего было смириться с мыслью, что я здесь мучаюсь, а он где-то смеется, живет полной жизнью, и все это без меня, как будто меня вообще нет на свете. Я без конца перечитывала «Митину любовь» Бунина.
Но, прошептав: «Ах, все равно, Катя!» — он тотчас же понял, что нет, не все равно, что спасения, возврата к тому дивному видению, что дано было ему когда-то в Шаховском, на балконе, заросшем жасмином, уже нет, не может быть, и тихо заплакал от боли, раздирающей его грудь.
Она, эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он делает, не сознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного — хоть на минуту избавиться от нее и не попасть опять в тот ужасный мир, где он провел весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.
Спустя две недели я сломалась. Решила — буду гордая, когда разлюблю, а пока не могу. И позвонила сама. Странно, но он сразу снял трубку.
— Ты куда пропала?
— Я пропала? — я задохнулась. — Ты мне две недели не звонишь!
— И ты мне две недели не звонишь. Ладно, давай встретимся через час на нашем месте.
И от этих слов «на нашем месте» — Громов раньше никогда не говорил, что у нас вообще есть что-то общее, наше, — я его сразу простила. Я пришла на «Курскую», и точно, он меня там ждал.
— «Наше место», — он смущенно улыбнулся, — я не знал, догадаешься ты или нет.
— Почему ты не звонил? — я, как полная дура, уткнулась ему в грудь и зарыдала.
Как может такой родной, такой любимый человек так мучить меня?
В тот день он был очень нежен, заботлив, старался рассмешить меня. Мы гуляли по Москве, целовались на скамейках; наконец мне это надоело — ну ведь не дети, в конце концов.
— Пошли ко мне, — сказала я, лежа у Громова на коленях и глядя в задумчивое лицо Николая Баумана, невинно убиенного революционера, под бюстом которого мы расположились на этот раз.
— А родители? — спросил он, играя моими волосами.
— Они вместе куда-то умотали, придут поздно.
Дома на самом деле никого не было, но из-за страха быть застигнутыми врасплох все получилось очень скомканно и быстро. Но я все равно была на седьмом небе. Мне ужасно хотелось сделать ему что-нибудь приятное, какой-нибудь подарок.
— У меня есть джинсовая куртка, хочешь? — спросила я. — Отцовская, но он ее не носит.
— Давай, — радостно согласился Громов.
Он тут же натянул куртку на себя, и, хотя он был немного повыше моего отца и шире в плечах, куртка ему подошла. Он самодовольно осматривал себя в зеркале, висевшем в коридоре, когда пришли родители.
Отец, увидев Громова живьем, во плоти, так сказать, да еще в своей куртке, просто замер на месте. Надо сказать, что отец был страшным шмотоводником, у него шкафы просто ломились от вещей. Я любила наблюдать, как он собирается, когда уходит из дома. Он по нескольку раз менял рубашки, галстуки, свитера и водолазки, пока не добивался полного единства и гармонии. Потом он душился сразу несколькими одеколонами и добавлял пару капель маминых духов, это называлось «залакировать».
К своим вещам он относился очень ревниво, сам следил за их чистотой и свежестью. Так, он не доверял маме стирку и глажку своих рубашек и брюк, а относил их в чистку. Я иногда брала поносить его вещи, и всякий раз по этому поводу у нас бывали споры и даже ссоры.
Поэтому, увидев его перекосившееся лицо, я решила, что на него так подействовал вид его джинсовой куртки на плечах моего молодого человека. Я не знала в тот момент, что отец со своим университетским другом замыслил отбить Громову яйца за его хамское ко мне отношение. В эти две недели он видел, что со мной происходит, и сочувствовал мне на свой лад, конечно, то есть еще больше придираясь ко мне и высмеивая мои ценности. Однако, в чем там точно дело, они с мамой не знали, пока отцовский друг случайно не подслушал мой разговор с Пален по телефону. Он позвонил, когда родителей не было дома; поговорив с ним, я сразу набрала номер Пален, а он почему-то так и остался на линии. В результате он узнал все подробности и в тот же день обо всем настучал отцу. Они решили идти бить Громова и уже каким-то образом раздобыли его адрес. Мама еле их отговорила, настаивая, что они только хуже мне сделают. И вот, они приходят домой и видят этого пресловутого Громова, да еще в отцовской куртке. Напряжение нарастало, пока все мы толпились в коридоре, молча пялясь друг на друга. Единственным, кто совершенно не понимал, что происходит, был Громов. Он мило улыбался и пытался завязать светскую беседу.