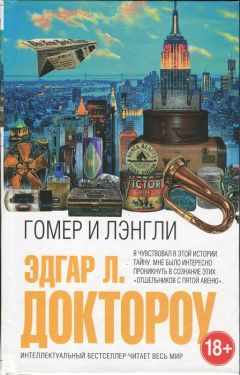Впрочем, в свое оправдание они все-таки сообщили, что уже побывали по месту жительства этой парочки в Бруклине — только затем, чтобы узнать, что чета Хошияма улизнула. Из-за чего потребовались дополнительные усилия для установки их местонахождения. Тут я просто взорвался от бешенства.
— Эти люди и не думали скрываться, — заявил я. — Ради их собственной безопасности им пришлось покинуть дом. Им угрожали физической расправой. Они хоть знали, что вы их разыскиваете? А теперь вы пытаетесь обвинить их в том, что они перебрались сюда, чтобы им не проломили голову?
Не помню, сколько я таким образом распинался, но мистер Хошияма, улучив момент, слегка тронул меня за руку, молчаливо призывая сдержаться. Супруги Хошияма были прирожденными фаталистами. Было похоже, что они с фэбээровцами понимают друг друга, отчего и я, и все мною сказанное делалось неуместным. Сами они не выражали никакого протеста, не рыдали, не горевали. Через некоторое время мистер Хошияма спустился по лестнице с двумя саквояжами: все, что им было позволено взять с собой. Чета надела шляпы и пальто: стояла зима первого года войны, — фэбээровцы открыли дверь, и в дом ворвался холодный ветер из парка. Мистер Хошияма пробормотал слова признательности и пообещал, что они напишут, если смогут, а миссис Хошияма взяла мои руки и поцеловала их. И они ушли.
* * *
Когда Лэнгли вернулся домой и услышал, что произошло, он пришел в ярость. Разумеется, он знал про все, что тут творилось, уже читал в газетах про облавы на американцев японского происхождения — тысячи их заключили в концентрационные лагеря. Хоть я и сказал ему, что дверь открыл мистер Хошияма, а агенты попросили разрешения войти, когда уже находились внутри, он все равно указал на мою беспомощность и глупость. «Этот дом — наше нетронутое царство, — сказал Лэнгли. — Мне плевать, какими, черт возьми, значками они размахивали. Выгнать их пинками и захлопнуть дверь у них перед носом — вот что ты должен был сделать. Эти люди плюют на Конституцию, когда им заблагорассудится. Скажи мне, Гомер, разве мы свободны, если свобода дается только с их позволения?»
Так что день-другой и я пылал теми же чувствами, которые испытывал Лэнгли по отношению к войне: враг пробуждает в тебе дремлющие первобытные инстинкты и замыкает самые примитивные цепи в твоем мозгу.
Мы с Лэнгли почли за сокровище велосипед для двоих супругов Хошияма, который они вынужденно оставили. Он занял почетное место под лестницей. Я заметил, что неплохо бы нам на нем ездить, чтобы он был в хорошей форме к тому времени, когда Хошияма вернутся. Так что у нас вошло в привычку выгуливать велосипед, когда стояла хорошая погода.
Меня очень радовала возможность покрутить педали. Приятно было немного размяться. Порой у меня возникали опасения, правильно ли рулит Лэнгли, поскольку он был способен отвлечься, заметив что-нибудь интересное на улице или в витрине магазина. Но это лишь добавляло прелести безрассудства. Мы катались взад-вперед по переулочкам и наслаждались рявканьем клаксонов за спиной. И так продолжалось целую весну, пока не лопнула шина, когда мы слишком уж резко срезали угол. Стратегия починки шины у Лэнгли была такая: заменить. Во время войны найти любую новую вещь, изготовленную из резины, невозможно, так что некоторое время брат там и сям подбирал подержанные велосипеды, надеясь, что подойдет шина от какого-нибудь из них. Найти так и не удалось, и с тех пор велосипед стоял вверх ногами в гостиной, где компанию ему составляли еще несколько велосипедов, прислоненных к стене.
Чета Хошияма оставила также свою коллекцию небольших статуэток из слоновой кости: слоники, тигры, львы, обезьянки, свисающие с веток, вырезанные из слоновой кости детишки, мальчишки с угловатыми коленками, девчонки, обвившие друг друга руками, дамы в кимоно и воины-самураи с повязками на головах. Все фигурки были не выше большого пальца, а все вместе они составляли поразительно обстоятельный мир лилипутов, который легко было потрогать руками.
«Мы обязательно сохраним все их вещи, пока они не вернутся», — сказал Лэнгли. Увы, они так и не вернулись, и я не знаю, куда подевались резные фигурки из слоновой кости: похоронены где-то под всем прочим.
Вот так же и люди: уходят из твоей жизни, и все, что тебе помнится про них, это их личность, жалкое неустойчивое качество, не сулящее никаких выгод, такое же, как и у тебя.
Во время войны наша входная дверь, похоже, стала притягательной. Однажды довелось нам открыть на стук каких-то стариков в черном. У них был такой жуткий акцент, что мы едва понимали, о чем они говорят. Лэнгли сказал, что они бородатые и у них завитые прядки возле ушей. А еще темные испуганные глаза и вымученные улыбки, с какими они извинялись за беспокойство. Это были очень религиозные иудеи — уж это-то мы сумели понять. Они показывали нам аттестаты с дипломами разных семинарий и школ. И протягивали жестяные ящички с прорезью, в которые просили нас опустить деньги. За месяц такое случилось раза три-четыре, и нас это стало раздражать. Мы не понимали, что происходит. Лэнгли считал, что рядом с дверью нам следует повесить табличку: «Попрошайкам тут не рады».
Но то были вовсе не попрошайки. Однажды утром явился чисто выбритый человек и встал в открытых дверях. Мне описали его так: коротко стриженные седые волосы и медаль «Победа» за Большую войну на лацкане пиджака. На голове у него была камилавка, что означало: и он тоже еврей. Звали его Алан Роузес. Мой брат, питавший слабость к любому, кто был на войне, пригласил его в дом.
Оказалось, Алан Роузес и Лэнгли воевали в одной дивизии в Аргонских лесах во Франции. Они заговорили так, как обычно говорят, когда обнаруживается, что люди вместе воевали. Мне пришлось слушать, как они перечисляют свои батальоны и роты, как вспоминают о пережитом под огнем. В таких беседах проявлялся совершенно другой Лэнгли — он сам проявлял уважение, и его уважали в ответ.
Алан Роузес разъяснил нам, что стоит за всеми этими непонятными просьбами денег. Это было из-за того, что делали с евреями в Германии и в Восточной Европе. Целью было купить свободу еврейским семьям: нацистские заправилы с радостью использовали свою расовую политику для вымогательства, — а заодно и донести информацию до американского общества. Если общественность возмутится, властям придется что-то предпринять. Он невозмутимо рассказывал об этом с самыми красочными подробностями, этот Алан Роузес. Он был по профессии учителем английского языка в общеобразовательной школе. И часто прочищал горло, словно хотел подавить эмоции. У меня не было сомнений, что рассказанное им — правда, и в то же время это было до того постыдно, что чуть ли не требовало: не верь. Позже Лэнгли озадачил меня вопросом: «Почему эти старики, которые стучали к нам в дверь, знают больше, чем наши информационные ведомства?»
В таких обстоятельствах Лэнгли было трудно сохранять философский нейтралитет.
Он быстро выписал чек. Алан Роузес выдал расписку на бланке какой-то синагоги в Ист-Сайде. Мы проводили его до двери, он пожал нам руки — и ушел. Полагаю, он еще найдет дверь, в которую нужно постучать, и за ней испытывать еще большее смущение: ему была свойственна сдержанность человека, который, следуя своим принципам, делает то, на что природой ему средств не отпущено.
В каждой ежедневной газете Лэнгли просматривал колонки новостей. История по крохам всплывала с последних страниц без всякой оценки чудовищности ужаса. «Это полностью соответствует, — сказал он, — политике ничегонеделанья нашего правительства. Даже на войне заключают сделки, а если их нельзя заключить, бомбят поезда, срывают операцию — все что угодно, лишь бы дать этим людям возможность посражаться. Тебе не кажется, что эта земля свободных и родина отважных попросту недолюбливает евреев? Разумеется, нацисты — отъявленные чудовища. Ну а мы кто, коли не мешаем им творить то, что они творят? А значит, что остается, Гомер, от твоей сказки про войну добра со злом? Господи, да я отдал бы все на свете, лишь бы родиться кем угодно, только не человеком!»
Лэнгли, как белой вороне, как еретику, еще предстояло развиться. А как же иначе? Когда мы узнали, что Гарольда Робайло призвали в армию (это случилось позже, не помню, на каком году войны), мы приладили висюльку в форме синей звезды, которые люди выставляли в окнах в знак того, что кто-то из семьи ушел на фронт. Гарольд уехал, попросился в ВВС и прошел обучение на авиамеханика — этот разносторонне одаренный музыкант. К тому времени, когда до нас дошла весть об этом, он был уже за границей в составе эскадрильи истребителей-перехватчиков, где служили сплошь черные.
Так что теперь мы воспряли духом и так же наполнились гордостью, как и любая семья по соседству. Впервые за время войны я почувствовал себя частью чего-то. Время сблизило людей, и в этом холодном городе безучастных чужаков, где каждый сам по себе, ощущение общности было сродни теплому весеннему дню в середине зимы, пусть для этого и потребовалась война. Когда я выходил прогуляться (теперь я пользовался палочкой), люди здоровались со мной, пожимали мне руку, спрашивали, могут ли чем помочь, — они думали, я потерял зрение, сражаясь за родину. «Давай, солдат, обопрись о мою руку». Я не думал, что выгляжу так молодо, но, возможно, меня принимали и за бывшего старшего офицера. Лэнгли здоровался со сторожами соседних домов, когда те забирались на крыши наблюдать, не появятся ли в небе вражеские самолеты. Он купил на нашу долю облигации Военного займа, хотя, должен заметить, не из чистого патриотизма, а потому, что посчитал это надежным вложением средств. Может, и были где-то Европейский фронт боевых действий и Тихоокеанский фронт, но мы были Домашним фронтом, и, раз уж мы консервировали овощи с наших огородов победы, значит, фронт этот был таким же важным для победы в войне, как сам Джи-Ай Джо.[19]