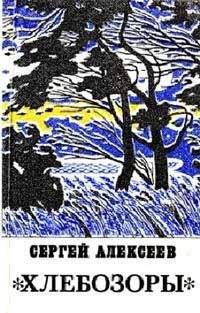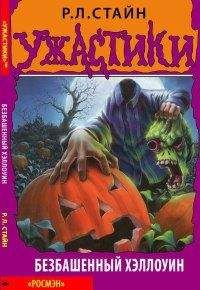Потом обвыкся, притерпелся, хотя иногда то ли забывал о цепи, то ли уж злости в нем столько накопилось, что он бросался на кого-либо с лаем, а привязка хватала за горло, опрокидывала на землю и в этот момент делала его еще яростней.
Вот так же однажды он выскочил кому-то навстречу, захрипел на ошейнике, и мать, выглянув узнать, кто пожаловал, закричала дядю Федора. Потом мы выскочили все и под яростный лай обнимали и тискали бравого чубатого мичмана Володю, младшего сына дяди Федора.
Володя приехал в первый свой отпуск после четырех лет срочной службы на Тихоокеанском флоте. Он писал, что остается на сверхсрочную, но не совета спрашивал у отца, ни тем более позволения, а сообщал как случившийся факт. Дядя тогда расстроился еще сильнее, чем из-за меня, когда забраковала медкомиссия. Дело в том, что все четыре года дядя настойчиво требовал от Володи, чтобы тот подал рапорт на поступление в военную мореходку, и каждый раз получал обещания. Мичманство Володи оказалось сюрпризом.
— Какого лешего? — строжился дядя Федор. — На хрена тебе эти лычки сдались? В твоем возрасте люди умные звезды на погонах носят!
— Ничего! И я до звезд дослужусь! — веселился Володя. — Провалился я на экзаменах, на дно лег, понимаешь? Грамоты не хватило!
— Грамоты! Что грамоты? Тебе льготы полагаются, ты из моряков и батя твой — майор в отставке! Соображать надо!
— Там не таких сообразительных вышибали! — хохотал мичман. — Нынче все в технику упирается, батя, в науку, в математику! Чего я полезу? Теперь вон атомные подлодки делают. Если грамоты нет, и соваться нечего.
И сидя за столом среди родни, светился от радости — так ему было хорошо. А дяде Федору хотелось, чтобы он стал непременно адмиралом.
— А мы с большой грамотой немца били? Учеными до майоров дослуживались? — сердился он. — Нет, боязливое поколение какое-то идет, робкое. Чую, случись война, опять нам, старикам, подниматься. Без нас вы так и будете на грамоту кивать, наукой прикрываться.
— Да ну ее, бать, я в отпуск приехал! — Володя обнимал отяжелевшего отца. — На охоту сходить хочу, на медведя. Я ребятам посулил шкуру привезти. Чтоб шкура эта грела на дне морском. Мы же по полгода земли не видим, неделями — света белого…
Он буквально бредил охотой, видно, намечтавшись о ней и тысячи раз прокрутив в сознании ее примерную картину, когда плавал на своей подводной лодке. Во сне он кричал: «Какого дьявола! Медведя бьют в ухо! Понял? Дураков — в лоб, а медведя в ухо! Все! По местам стоять!» Днем он ходил по Великанам, спрашивал у мужиков, не знает ли кто берлоги, а еще обласкивал и прикармливал Басмача. Он сразу определил, что Басмач — прирожденный медвежатник и зря его держат на цепи. За несколько дней озлившийся на всех пес стал ласковым и ручным, так что перестал лаять на дядю и лишь ворчал, когда тот приближался на длину цепи. Володя запретил матери стричь его, когда она собралась связать мичману носки из собачьей шерсти, чтоб теплее было плавать, дескать, медвежатник и должен быть лохматым, чтоб зверь когтями не вспорол шкуру.
Примерно через неделю к нам пришел дядя Леня и сообщил, что нашел берлогу в десяти километрах от Божьего озера. Правда, медведя там еще нет, но он обязательно ляжет, поскольку уже приготовил берлогу и бродит недалеко от нее. Володя торжествовал. Он вычистил привезенное с собой ружье, зарядил патроны и стал ждать сигнала, когда пойти на берлогу. Дядя Федор был не против охоты, но его коробило, что идти на медведя придется с дядей Леней. Однако деваться некуда, другой берлоги так скоро не сыщешь даже в наших лесных местах. Он тоже собирался на охоту, для чего взял у Турова двустволку и пока тренировался, палил из нее по тетрадному листу, повешенному на баню. Меня сначала не хотели брать — мама и слушать не могла, резала сразу — умру, а не пущу! Однако Володя, обласкавший Басмача, как-то незаметно убедил и мою мать. Она лишь взяла слово, что меня посадят на дерево и только потом станут вытравливать медведя из берлоги.
Сигнал от дяди Лени мы получили после второго зазимка и в тот же день собрались на Божье озеро. Но когда мы вышли из избы, Басмач вдруг бросился на нас, душась на ошейнике, не лаял, а орал, захлебывался пеной и никого не подпускал.
— Это не на нас — на ружья, — догадался дядя Федор. — Запомнил, думает, убивать будем…
И правда, когда мы с Володей отдали ему ружья и отослали вперед, то спокойно подошли к Басмачу, приласкали его, и он в свою очередь приласкался к нам. Отпускать мы его не стали, а повели на поводке до самого Божьего.
— Гляди-ка, — удивлялся Володя, уже знавший историю Басмача. — Собака, животное, а разум есть! Это ведь надо понять, что ружья в руках, что убить можем! У него в сознании, наверное, отпечаталось: если ружье, значит, убивать будут. На охоте-то он не был, не знает что почем…
В кордонной избе на Божьем оказалось, что мы пойдем на охоту не вчетвером, а впятером. Как раз приехал старший сын Степана Петровича, Иван — рослый, с дядю Леню, такой же белый и здоровый мужик. Это обстоятельство расстроило дядю Федора еще больше, так что он даже в избе сидеть не стал — ушел на берег и до темноты ходил там, выковыривая из-под снега выброшенный волнами рогульник. Меня несколько раз посылали за ним, однако дядя отмахивался, дескать, я не пью водки, поэтому лучше на свежем воздухе погуляю.
Тем временем мужики в избе накрыли простецкий стол, уселись, открыли привезенный Володей джин и начались разговоры, от которых заходилась душа. Только дядя Иван сначала поворчал из-за меня, дескать, зачем парнишку-то брать? Не на рябков собрались, на зверя, мало ли что бывает… И вообще он сразу мне не понравился, хоть и походил на дядю Леню: смотрел на меня пристально, оценивающе и сурово, будто хотел сказать — что за боязливое поколение пошло? Сопляк еще, а на медведя собрался.
Однако и он потом разговорился, отмяк, оттаял, и изредка, перехватив мой взгляд, подмигивал, как старому приятелю. Потом пришел озябший дядя Федор, сел к столу, но пил только чай, кружку за кружкой.
— Пей, пей! — весело подбадривал дядя Леня. — Если надо — еще поставим чайник! А с утра — мишку тормошить пойдем!
Я заметил, что дядя Федор с дядей Иваном хоть и сидели друг против друга, но даже глаз не подымали, словно оба виноватые. Или боялись друг друга так, что стоит им встретиться хотя бы взглядами, как они тут же схлестнутся и пойдет драка. Видно, это же заметил дядя Леня, потому что толкнул дядю плечом, подмигнул и весело бросил:
— Ничего, мужики! Завтра михайло-то вас помирит!
Потом я уже подобных мелочей не замечал. Мужики рассказывали такие страсти про медвежью охоту, что сами как-то сбивались, теснились за столом, а за дверью вдруг заскулил Басмач. Наверное, и ему стало страшно. Больше всех говорил, конечно, дядя Леня. Он орал по-медвежьи, вскидывая руки, царапал мужиков, заворачивал им кожу с головы на лицо, и многие его случаи кончались трагически либо ужасными погонями зверя за охотником. Иногда волосы дыбом поднимались и в жарко натопленной избе мороз продирал по спине.
— Вот однажды весной иду — собака залаяла, — начинал очередной рассказ дядя Леня. — Думал, белка, в стволе — дробь. Гляжу — в снег лает и только подошел, с лыж соскочил, а она уж передо мной! А я в снегу по пояс. Куда бежать? Верите-нет, сажени в полторы ростом. Встала эдак вот и стоит, жмурится от света… Ну, думаю, разглядит — и хана мне!
Бывалый мичман Володя и тот присмирел, видно, что-то не сходилось с его мечтами. И Басмач уже выл на улице, скребся в двери лапой и чакал зубами. Лишь дядя Федор спокойно пил чай, кочегарил печку, чтобы согреть еще — на него напала какая-то жажда, — и изредка выходил на улицу.
Между тем керосин в лампе выгорал, свету убавилось и темень за окнами становилась непроглядной, отчего рассказы и сами рассказчики делались зловещими. Дядя Леня разошелся вконец. Он уже ползал по избе на четвереньках, изображая медведя, выскакивал из-под стола, словно из берлоги, хватал Володю в объятья и валил на пол. В самый разгар дядя Федор стукнул кружкой по столу и прикрикнул:
— Поврали и будет! Спать пора, вставать рано.
И завалился на нары. Мужики послушались, улеглись кто где, увернули лампу, только дядя Леня все еще не мог успокоиться. Он разгребал угли в печи, чтоб прикрыть трубу, потом курил последнюю цигарку и между делом травил очередную байку, как медведь украл в деревне девку и целую зиму держал у себя в берлоге. Я прижался к Володе, вдохнул вкусный и незнакомый запах его морского бушлата и незаметно уснул под страдания украденной медведем девки.
Проснулся я от громкой возни и крика.
— Медведь!!! — орал дядя Леня и, упершись ногой в косяк, держал дверь за ручку. А кто-то страшно сильный рвал ее снаружи так, что дядя Леня едва выдерживал, продолжая кричать. Басмач захлебывался от лая. Мужики заметались по избе, и заметались по стенам черные, мохнатые тени. Дядя Иван кинулся помогать держать дверь и одной рукой попробовал набросить крючок, но не вышло.