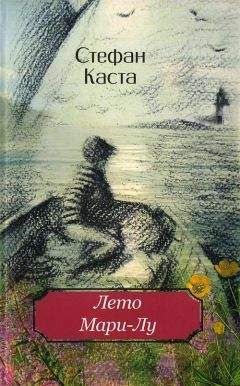— А ты пробовала заниматься регулярно?
— Три года, Адам. Три года. Сначала каждый божий день. Весь первый год был для меня сплошной тренировкой. Ты видел результат: несколько метров. И это все. Несколько метров за три года. Мои ноги не хотят ходить.
Я киваю. Молча сижу какое-то время. Жду, что она продолжит.
— Дело не только в тренировках и желании. Хотя люди считают, что это самое главное. Словно можно превратиться в суперспортсмена, едва сев в инвалидную коляску. Они надеются, что нужно бороться и тренироваться, а потом раз — и побежал, и запрыгал, или, по крайней мере, начал играть за команду инвалидов-колясочников и принимать участие в Параолимпийских играх.
— Я имел в виду другое.
— Вот что люди не понимают, так это то, что все зависит от вида травмы. Существуют тысячи и тысячи нервных волокон, которые управляют нашими мышцами. Эти чертовски важные нити повсюду в нашем теле. Все дело в них, в этих микроскопически тонких нервных волокнах какого-нибудь жизненно важного нерва, который повреждается или зажимается. Если повезет, то есть шанс натренировать и восстановить мышцу. Нервные волокна могут срастись. Но такое происходит в первый же год. Если этого не случается, то ничего не выйдет. Никогда. Что бы ты ни делал.
— Это твой врач сказал, что у тебя нет шансов?
— Врачи не знают. Они стоят в белых халатах и смотрят на тебя. Замечают, есть ли прогресс или ты просто стоишь и трясешься. Их учат этому. Они просто делают свою работу: надоедают, звонят домой и ругаются, если отлыниваешь от занятий, ободряют, если сидишь в углу и ревешь, когда кажется, что все бесполезно. Благодаря их настойчивости находишь в себе силы не опускать руки.
— Так ты не сдалась?
— Я больше не верю в чудеса. Но я не прекратила заниматься. Я должна продолжать тренировки, как любой другой человек. Мне в каком-то смысле повезло. Позвоночник травмирован в самом низу. Чем выше травма, тем сильнее паралич. Но я не ломала позвоночник. У меня неполное повреждение.
— Что это значит?
— Это значит, что при ударе позвонки сжались. Но я больше не думаю о травме. Я хочу научиться жить заново, научиться жить в этом кресле. Вместо того чтобы мечтать, что однажды смогу ходить или танцевать.
— И как часто ты тренируешься?
— Один раз в неделю.
Я молчу. Ее ответ едва не приводит меня в бешенство: один раз в неделю! Это же совершенно бессмысленно. Просто пшик. Человек умрет от запора, если будет ходить в туалет раз в неделю. Но я сжимаю челюсти.
— Прости меня, — говорю я.
— За что?
— За то, что не знал, через что ты прошла. За то, что задаю тебе такие дурацкие вопросы.
— Ты правильно делаешь, Адам. Можешь и дальше задавать свои дурацкие вопросы.
* * *
Но тот самый вопрос, что как пламя жег мои губы, я так и не задал. Этот вопрос преследовал меня три года, будил по ночам, заставлял просыпаться в холодном поту и шептать: «Нет, Мари-Лу! Нет! Не делай этого!» Этот вопрос я так и не задал. Я снова проглотил его. Каждый раз, когда этот жгучий вопрос всплывает из глубины моей памяти, я проглатываю его со слюной снова и снова. Чувствую, как невысказанные слова шипят на языке, а потом превращаются в пар и растворяются в воздухе: «Мари-Лу, неужели ты на самом деле прыгнула с дерева?»
В этот раз я тоже промолчал. Я так и не решился задать его тебе, Мари-Лу.
* * *
Я спускаюсь к мосткам, снимаю испачканную кровью одежду и пытаюсь постирать ее. Достаю кусок зеленого мыла и щетку, надежно спрятанные под мостками, расстилаю одежду и тру ее. Результат меня радует. Прополоскав вещи в озере, я раскладываю их сушиться здесь же, на мостках.
Возвращаюсь к скамейке перед домом и натягиваю высохшие джинсы и голубую футболку. Они нагрелись на солнце. Чувствую, как что-то колет мне поясницу, ищу на ощупь и нахожу письмо, торчащее из заднего кармана. Ну, конечно же, письмо для Мари-Лу! Оно выглядит потрепанным, свернулось от сырости. Текст местами поплыл.
— Мари-Лу! — кричу я. — Тебе письмо.
Она появляется в дверном проеме.
— Я совсем о нем забыл. Кажется, это от твоей мамы.
Я как могу, разглаживаю конверт и протягиваю его Мари-Лу.
Она смотрит на него, переворачивает.
— Ты что, купался с ним?
— Оно пролежало в джинсах всю ночь. Вчера я промок под дождем.
Мари-Лу вскрывает конверт указательным пальцем, но никак не может развернуть листок: высохнув, он слипся.
— Нужно снова его намочить. Пойдем, я покажу как.
Я захожу в кухню, ставлю на плиту кастрюлю с водой, и когда она закипает, держу письмо над паром. Бумага быстро размягчается, и я осторожно разворачиваю лист.
Мари-Лу читает про себя. Снова складывает его пополам и смеется:
— Мама передает тебе привет.
— Спасибо.
— И Андерсу, — добавляет она.
— А зачем она передает привет папе?
— Потому что думает, что он тоже здесь.
— А почему она так думает?
— Потому что я так сказала. Неужели ты считаешь, что она отпустила бы меня сюда, если б знала, что ты тут один?
* * *
— Пойду, прогуляюсь, — говорю я Мари-Лу и беру с собой альбом для эскизов и несколько карандашей, чтобы она поверила, что я на самом деле собираюсь немного поработать в одиночестве.
— Угу, — отвечает она, не открывая глаз.
Мари-Лу лежит на мостках в черном купальнике-бикини и загорает. Ее темно-каштановые волосы рассыпались по доскам. Хрупкое тело, довольно большая грудь. Она выглядит как любая другая пятнадцатилетняя девчонка. И все же судьба ее отметила. Мышцы ног узкие и прямые. Видно, что она давно ими не пользовалась, гораздо чаще используя мышцы рук.
Я ухожу и слышу, как она кричит мне вслед:
— Будь осторожен…
Я ничего не отвечаю, поскольку не понимаю, что она имеет в виду. Я лишь останавливаюсь и киваю, но она все так же лежит с закрытыми глазами.
— … а то вдруг тебя лисы утащат!
— Хорошо! — кричу я.
Я иду по тропинке через лес Йона Бауэра. Смотрю на корни, которые мне теперь не составляет труда перешагнуть. Слегка пинаю их, словно те должны понять, что им тут не место.
Когда я прихожу на наше место, вижу, что уже созрела земляника. В той части луга, где ее особенно много, воздух пропитан сладким ароматом. Я вдыхаю его, вспоминаю, как пахло в прежние годы, и думаю, что если бы запахи можно было увидеть, то над лугом витала бы розоватая дымка, медленно разносимая ветром по округе.
Я присаживаюсь на корточки, достаю целлофановый пакет и принимаюсь собирать крепкие ягоды. Они похожи на маленькие клубнички. Когда я был маленьким, папа называл их «эльфийской клубникой».
Я набираю полный пакет. Сажусь на траву и съедаю несколько ягод. Луговая земляника слаще обычной. Мари-Лу ее тоже любит.
* * *
Вечером, когда Мари-Лу легла спать, я задерживаюсь в кухне. Сажусь у окна и делаю несколько набросков: двор в деталях, мостки и озеро в лучах заходящего солнца.
Когда я думаю, что она уже уснула, иду в кладовку, беру три яйца, взбиваю их, добавляю две чашки сахара, еще раз взбиваю, затем — две чашки муки и чашку молока, кусок маргарина, ванильный сахар.
Когда пирог уже в духовке, я вспоминаю, что забыл про соду. Пожимаю плечами, взбиваю сливки. Пирог вышел низкий, всего несколько сантиметров в высоту. Жаль, что не получится разрезать его на несколько коржей.
Я задумываюсь. Затем смазываю верх пирога густым малиновым киселем и покрываю толстым слоем взбитых сливок. Ягодами земляники выкладываю слова поверх сливок: «Поздравляю, Мари-Лу!»
Закончив, отношу пирог в кладовку. Раздеваюсь и заползаю под одеяло. И тогда, в полной тишине и темноте, раздается голос Мари-Лу:
— Адам, что ты там делаешь?
— Ничего.
— Это твое «ничего» вкусно пахнет.
Несколько минут царит тишина. Затем я кричу:
— Ты закрыла кур?
— Да-а.
* * *
День рождения Мари-Лу начинается хорошо. Я просыпаюсь рано утром, на цыпочках выхожу во двор и справляю нужду. Чувствую под ногами влажную от росы траву, думаю, что мне предстоит сделать сегодня. Всё под контролем, единственное, о чем я забыл, так это собрать на нашем лугу букет колокольчиков. Вместо колокольчиков будут цветы иван-чая. Я выбираю те, что растут как можно дальше.
Оставляю цветы на рампе, а сам спускаюсь к мосткам и умываюсь. Мне нравится споласкивать лицо холодной озерной водой и мыться твердым, как камень, мылом, шершавым от песчинок, прилипших к нему. Чищу зубы, сплевываю пену, смотрю, как она уплывает прочь по зеркальной глади озера.
«На твой день рождения, Мари-Лу, будет солнечно», — думаю я. Решаю, что это добрый знак.
Я ставлю кастрюлю с водой на плиту и, как только та закипает, приношу торт. Нахожу в шкафчике под мойкой поднос и накрываю его чистым кухонным полотенцем. Ставлю две чашки, баночку меда, два блюдца с чайными ложками. Подрезаю ножом стебли иван-чая и ставлю цветы в изящный пивной бокал с золотой надписью «Holsteinerbier».