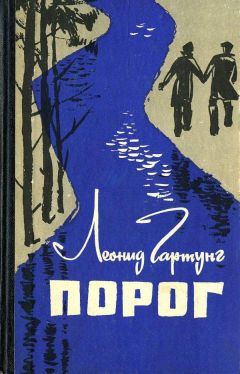Тоня покачнулась на стуле. Ручка катится по тетради, оставляя красные следы. Тоня крепко растирает виски, но это не помогает. Тогда она торопливо откидывает одеяло, раздевается и ныряет под холодную простыню. А утром снова гром будильника над ухом. Тоня вскакивает с постели и включает репродуктор.
— Райка! Подъем!
Тоня сидит на раскладушке, поджав под себя ноги, и планирует урок алгебры. На подушке перед ней задачник и методика. Райки нет дома.
— Разрешите?
Это Зарепкина. Беглым взглядом она окидывает комнату.
— Значит, на новом месте?.. Антонина Петровна, я слышала, вы ездили куда-то? Не устраиваться ли?
Зарепкина усаживается за стол, локти упирает в скатерть. Она старается держаться не слишком официально. В голосе ее сочувствие. Так разговаривают с тяжело больным.
— Антонина Петровна, неужели вам и в голову не приходило, что он может быть женат?
— Не приходило.
— И вы никогда не пытались официально оформить с ним ваши отношения?
— Нет.
— Боже мой, какая доверчивость… Вы не обращайте внимания, что я говорю «боже мой». По убеждению я атеистка… Какая доверчивость и, я бы сказала, наивность. Надеюсь, вы не беременны?
— Нет.
— Так что же дальше? Надеюсь, вы понимаете, что перебраться из одной комнаты в другую — это не выход из положения. Мы нарочно дали вам время, чтобы вы все обдумали. Конечно, можно было бы по-другому. Но нам не хотелось выносить этот вопрос на собрание. Мы щадили вас в первую очередь. И все же долго так продолжаться не может. На вас смотрят коллектив и ученики… И Викентий Борисович мне пишет: «Выясните и сообщите, что предпринято…» А что, что мы можем ему ответить?
— Что вам нужно?
— Мне лично — ничего. Но самое правильное с точки зрения советской морали было бы кому-нибудь из вас уехать. Кому-нибудь, но он директор… Для него все это сложнее. А вам можно было бы организовать перевод в другую школу. РОНО, я уверена, пошло бы навстречу. Я прошу вас подумать. И не оттягивать решение. Хорошо бы получить ваш ответ не позже понедельника-вторника.
Зарепкина прощается. Без улыбки. Она сочувствует, но какие уж тут улыбки. Мораль — дело серьезное, тут надо по-деловому.
Тоня сидит у окна и смотрит на хмурую осеннюю Обь. Вчера Райка спросила ее:
— Тонь, ты была когда-нибудь совсем-совсем счастливая?
А как могла ответить она? И была, и не была… Когда на экзамене по теории чисел доцент Максимов ставил ей оценку, она следила за его рукой, за кончиком пера его авторучки. Этот кончик делал маленький кружочек, и в тот же момент она догадывалась, что будет «отлично», и очень радовалась, даже была счастлива, потому что здорово готовилась к этому экзамену и очень его боялась, а когда перо писало «т», она уже думала о другом — о том, что Вера Баснева не знает второго вопроса и, наверное, ответит плохо, и что нужно ухитриться передать ей шпаргалку, а то ее снимут со стипендии, и она бросит учиться.
И еще бывает — блеснет алый край солнца из-за большой тучи, или вдруг зашумят сосны. Сосны давно шумят, но ты не слышишь, а тут вдруг услышишь, и станет так хорошо, и радуешься, что живешь, или чей-то взгляд в толпе, или мысль в книге, или песня, или когда решишь трудную задачу, которую долго не могла решить. А прочного, долгого счастья она не испытала. Хочется же очень многого.
Хочется научиться хорошо делать свое дело, так, например, как делает его Хмелев. Хочется поездить по свету и многое узнать и многое почувствовать, побывать на море и в Москве и, должно быть, потому, что пришло время, хочется иметь ребенка. У нее иногда такое чувство, словно он где-то рядом, нужно только позвать его. Она даже придумала ему имя, и ей иногда до слез его жалко, что он еще не живет. Хочется, чтобы не было войны ни у нас, ни где-нибудь в другом месте, чтобы люди занимались тем, чем они должны заниматься, то есть созиданием, а не разрушением, и тогда можно будет прожить долго и вырастить детей и, может быть, детей своих детей, и знать, что цепочка не оборвалась. И хотя все равно всего на свете не узнаешь, хочется узнать, правда ли, что есть каналы на Марсе, и удастся ли построить единую теорию элементарных частиц, и справедлива ли большая теорема Ферма, и в чем разгадка красного смещения, и что такое сверхзвезды, и прочтут ли ученые древнекритские письмена… Да всего и не перечислишь, чего хочется…
Не дождавшись ответа, Райка окликнула ее:
— Тонь…
— А?
— Ты сидишь так уже целый час. Хочешь, музыку будем слушать?
— Нет, только не музыку.
Райка подошла к Тоне, положила теплый подбородок ей на плечо.
— Тонь, а может быть, ты вернешься к нему? Может быть, ты зря себя мучишь? Все думаешь о нем. Надо же что-то делать…
И на это Тоня тоже ничего вчера не ответила. Сейчас она задергивает занавеску. Хватит бессмысленно разглядывать серую воду и белый снег.
— Делать? Конечно, надо делать…
Тоня достает бумагу и садится писать. Сперва то, что она написала, похоже на длинное письмо. Потом она черкает, черкает, и остаются всего несколько слов. «Прошу освободить меня от занимаемой должности». И никаких излияний. Все просто: «от занимаемой должности».
Затем она идет в школу. Борис у себя в кабинете. Тоня кладет перед ним заявление.
Борис читает написанное. Почему он так долго читает? Как будто это действительно письмо, а не простое заявление.
— Ну что ж.
Он засовывает Тонино заявление под пресс-папье. Тоня с облегчением вздыхает и выходит из кабинета. А она-то, глупая, боялась, что что-то придется объяснять, в чем-то его убеждать. Оказывается, все проще. И нет в этом ничего удивительного — не все ли ему равно, будет ли в расписание включена Найденова, Иванова или Петрова. Неизвестно только, сумеют ли сразу найти замену. Зимой это нелегко.
А потом? Потом она уедет в Каргасок к Люде. Целый год не виделись. Нехорошо. Потом устроится работать. Может быть, в начальные классы… Не все ли равно, куда? Нет, она не пропадет. Только вот усталость. Словно она только что вышла из больницы. Но это пройдет. Должно пройти. Не может быть, чтобы не прошло.
Вечер. Знакомый двор. Та же поленница дров. Те же сосны над толевой крышей и тот же сруб. Только венцов в нем прибавилось.
В дверях Тоню встречает женщина лет тридцати. Грудь высокая, молодые босые ноги, миловидное, чуть поблекшее лицо. Серые волосы рассыпаны по плечам и спине. Это Кланька Чумизова, — с ней Тоня встретилась тогда в магазине.
— Степан, к тебе.
— Здравствуйте.
Степан Парфеныч после бани. В избе жарко натоплена печь. Он сам на кровати, без рубахи. На груди сквозь рыжие с сединой волосы проступает синяя русалка.
— Кланька, подай очки.
Кланька подает. Он надевает их и окидывает Тоню оценивающим взглядом. Неважнецкая бабенка. Тощая. Слабая.
— Я Митина учительница. А где же Митя?
— Кланька, где Митька?
— На охоту ушел.
Степан Парфеныч вяло опускает ноги с кровати, тяжело хромая, идет к посудной полке, находит какие-то таблетки, кидает в рот, морщась запивает водой. Идет к столу. По дороге задевает головой электрическую лампочку, свисающую с потолка. Она покачивается.
Он садится на табурет. Тоне видно его лицо. Сломанные оглобельки тонких железных очков перевязаны грязной ниткой. Одутловатые, плохо выбритые скулы. Особенно неприятны ей его глаза — совершенно светлые, холодные. Крупные, покрытые веснушками руки его лежат на коленях.
— Степан Парфеныч, вы жить здесь будете?
— Здесь. А где же еще.
— А где работать думаете?
— Куда пошлют. — Он отвечает, а сам словно все время думает о чем-то другом.
— Почему же Митя не ходит в школу?
— Кто его, варнака, знает.
— С утра он петли пошел проверять, — вмешивается в разговор Кланька. — Да что-то припоздал.
— Он и вчера не был.
— Вчера он пимы подшивал.
— Ты, Кланька, налей нам по стопочке. Ради знакомства.
— Нет, нет, — решительно отказывается Тоня. Степан Парфеныч притворно удивляется:
— Это как же понять? По должности не положено?
— И по должности, и так не хочу.
Кланька приносит из-за перегородки два стакана водки. Степан Парфеныч выпивает один стакан и вдруг весело подмигивает Тоне:
— Завидно, небось? Скушная у вас жизнь. Под вид монахов. Ни выпить, ни сплясать…
Он смеется. Смех его неприятный, словно он похрюкивает. О чем говорить дальше, Тоня не знает.
— Мите обязательно надо учиться, — говорит она. — Обязательно.
Степан Парфеныч кивает.
— Это я понимаю и чувствую. Очень даже чувствую. Вас как по батюшке?
— Петровна.
— Я, Петровна, все понимаю. Нынче жизнь пошла — без ученья нельзя. И Митьке я наказываю — учись. Учись — и человеком будешь. Наша жизнь прожитая, а вам жить… И учителей уважаю. Учитель — он с образованием и на то поставлен. Вы его крепко держите. Избаловаться ему недолго.