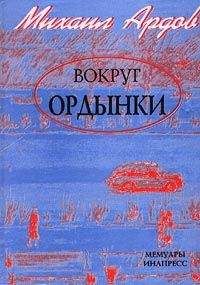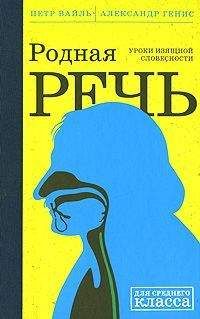Следующий дом — двухэтажный. Из каменного низа:
Ты вспомни, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе…
Из деревянного верха:
Это было в Гренаде,
Где испанцы живут,
Где цветут алианы,
Где гитары поют…
Через два дома на той стороне:
Что ж я буду делать,
Милый мой дедочек?
Что ж я буду делать,
Сизый голубочек?
Из второго деревянного этажа:
Подари мне забвенье,
Подари мне любовь,
Я такой одинокий,
Что люблю тебя вновь…
Через два дома:
Спекулируй, бабка,
Спекулируй, любка!
Спекулируй, сизая
Ты моя голубка!
А свадьба уже выплеснулась на улицу и пляшет прямо на траве.
И она:
Эх, сват, сват, сват,
Не хватай меня за зад,
Хватай только за перед,
Лучше горе не берет!
И он:
У милашки под рубашкой
Облигацию нашел,
Расстегнул свою ширинку,
Тут и номер подошел!
И она:
Девка — розовый букет,
Между титек — комитет,
Ниже пупа — райпродком,
Пожалуйте за пайком!
И он:
У милашки под рубашкой
Сорок восемь десятин,
Я молоденький мальчишка
Обрабатывал один!
И она:
Солдатики умны,
Завели на гумны,
Там рожь, лебеда,
Там и дать — не беда!
И он:
На дворе барана режут,
Я баранины хочу!
Если к осени не женят,
X… печь разворочу!
И ничего он уже не разворотит. И он, и она, и вся свадьба, и соседи, и те, что через два дома, — все уже отравлены.
Вот тебе, теща, зеленая роща!
Плохо мне одному… С тех пор, как умерла Матрена, — совсем плохо. Я ненавижу грязную жирную посуду, свои черные кастрюли и чайник… Ненавижу свой веник и совок для мусора со сломанной ручкой… Ненавижу сосиски в целлофане и слипшиеся кислые пельмени…
Но при всем своем желании я не могу представить себя женатым, как не могу вообразить себя далай-ламой…
Я вообще почти не верю в самую возможность брака. Это — редчайший дар, и я видел его лишь у двух-трех избранных еврейских пар, когда возникает некая неправдоподобная близость, сильнее родственной, сильнее дружеской, сильнее всего на свете…
Недаром ведь тот, у кого гостили Ангелы, при случае запросто выдавал жену за сестру.
Да и неизвестно еще что лучше — грязная посуда и липкие пельмени или закормленные внуки с золотушной сыпью на толстых мордашках, да взрослые паразиты дети?..
Только один раз в жизни я стоял как бы на грани брака.
По счастию, у моей тогдашней пассии не было ни малейшего желания, да и никакого резона выходить за меня.
Было это в самый мой кишиневский период, когда я бродил по агонизирующей Москве и глушил себя спиртом из тоненькой гарднеровской чашечки. Дама моя была в некотором роде замужем, и при этом муж ее был не то чтобы род дворецкого при ней, а просто тряпка, ветошка…
Рога мы ему наставляли с такой наглостью, что я и до сих пор диву даюсь…
А была она весьма холодная и расчетливая стерва, которая только что постельную работу любила и знала, а я при ней — просто сосунок, кувшинчик… И ей было совершенно ясно, что, несмотря на зто, для роли ветошки я никак не годился… А потому и не следовало бросать мужа ради меня…
И не захотела она, не согласилась бежать со мной в Потогонию — страну любовной испарины…
Смешно подумать, я ведь стреляться хотел…
Наш рогоносец уже тогда, кажется, чего-то пописывал и даже печатал в ихних газетах… Потом она вывела его в люди, сделала «инженером человеческих душ», одним из главных инженеров, и все это с такой решительностью, что он и пикнуть у нее не смел.
Недавно она его без особой печали, но с большим почетом схоронила, оставшись вдовою с квартирой и с авторскими правами. И вот теперь, я слышал, держит у себя салон для либеральных литературных мнений…
Эх, да что там щелкоперы, бумагомаратели! Салонодержатели — вот чертово семя! Вот бы кого узлом завязал, в муку стер бы вас всех, да черту в подкладку! В шапку, туды ему!
Прошлое воскресенье у меня с утра трещала голова, и я решил пройтись по городу. Сначала потолкался на барахолке, ходил мимо развешанного на заборе тряпья и разного старого хлама, разложенного прямо на снегу. Потом вошел в самый базар. Не выдержал — с жадностью съел прямо у прилавка замерзший соленый помидор и такой же ледяной огурец. Больше было тут нечего делать, и ноги понесли меня по направлению к столовой «Заря», где, как я знаю, изредка бывает пиво.
В просторном и неопрятном зале было немноголюдно. Посетители сидели строго разбившись на два лагеря — поближе к кухне те, что пришли поесть, поближе к буфету те, что пришли выпить пива или портвейну.
Я купил у буфетчицы кружку и пошел к столику у окна. За ним сидел в одиночестве крепкий тридцатилетний паренек с красной физиономией и оттопыренными ушами. Одет он был почти щегольски — шерстяная рубашка и добротный синий костюм. Пиво пил важно и сосредоточенно.
— Разрешите? — сказал я.
Он молча кивнул, и я уселся.
Говорить и мне не хотелось. Каждый из нас был занят своей кружкой. Моя кончилась быстрее, я встал и подошел к буфету.
— Повторить? — услужливо спросила буфетчица и налила мне новую порцию.
Я вернулся за столик.
В зал вошли еще три человека. Оглядевшись, они приблизились к моему соседу и молча пожали ему руки. Потом, очевидно решив, что мы с ним собутыльники, поздоровались и со мною.
Один из них — личность примечательная. Высокий, худой. На лице и на переносице несколько глубоких царапин. Нос опух, и нельзя разобрать, природная на нем горбинка или благоприобретенная. Глаза совершенно заплыли. Пестрый бумажный свитер, под которым скорее угадывается, чем виднеется расстегнутая черная рубашка.
Двое других — шестерки. Один такой серенький с припухшими губами, а другой — белобрысая челка и носик выемкой.
Эти двое принесли пиво и стаканы, куда немедленно был налит цвета марганцовки портвейн. Мне тоже предложили, но я отказался. Они осушили стаканы, запили пивом.
Сначала заговорил Юрка — тот самый, солидный, в синем костюме, к которому я подсел.
— Прихожу, понимаешь, с работы — матери нет. Я в гардероб. Смотрю, нового пальто тоже нет. Я — к соседям. Говорят, не бывала. Я — к снохе. И тут нет. Я туда, сюда… Иду в больницу. Точно, говорят. В Горький отправили. В больницу. Рак у нее Желудка. Мы со старшим братом к врачу ходили. Говорим, нам-то хоть скажите. Рак, говорит, желудка. Ей-то не говорят. Хронический, дескать, гастрит у тебя. И есть ничего не может. Только молоко, сметану… Тут недавно прихожу, говорит: «Юрка, чего-то пельменей хочется». — «А чего? — говорю, — мясо у нас есть. Много ли нам вдвоем-то надо? Давай накрутим». Ну и накрутили. И вот, поверишь, только что четыре штуки съела — вырвало. Шестьдесят два года. Сколько еще протянет?.. И младший брат вернется, чего будет делать?..
— Толька? — сказал Витек, худой с разбитым лицом.
— Ну! — подтвердил Юрка, — Это ведь какой жук! Он в зоне, мне ребята говорили, он там работает, как лось… А выйдет — все. Ему какая хочешь зарплата, хоть шестьдесят рублей, только бы ему не работать. Только бы ему ни х… не делать. И, главное, хитрый ведь какой. Вот ты ему говори — он тебе поперек ни слова. Как будто соглашается. Знает, старший брат. Будет спорить, я же на него наору. А отойди ты на два шага, все по-своему сделает. В зоне вкалывает, а тут не хочу — и все!
— Он вообще чудак, — сказал Витек. — Вот он мой ровесник. Двадцать семь ему, а уж он почти червонец сидит. Только выйдет, его обратно в зону тянет…
— И там он работает, как лось, — сказал Юрка. — Чего теперь будет делать, не знаю. На мать уж надежда плохая. Старший брат — у него семья. Сестренка у нас в институте учится. Хочешь не хочешь, а каждый месяц тридцатка. Ему бы какая ни зарплата, только бы ничего не делать. Я в Прибалтику уезжал, на асфальтовом заводе работал. Говорю мастеру: «Возьми братишку на мое место». Там три дня в неделю работаешь, остальные на Клязьме лежишь загораешь. И меньше ста восьмидесяти не получается. Если ты там два дня прогулял, бригадир никогда тебе ничего не скажет. Но не пятнадцать же дней. Тут тебя уж никто не покроет. А мать у меня такая. Никогда денег не спросит. Сколько ей в получку принес — пять рублей — пять. Сто семьдесят — сто семьдесят. Никогда не спросит Положил на швейную машину и все. Утром говорю: «Мать, мне похмелиться надо, дай два рубля». Без звука…