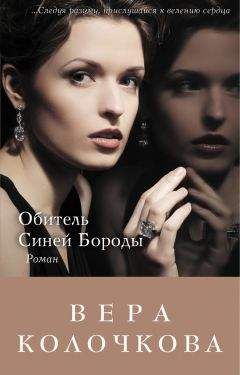В зеркале отражалась та сторона улицы. Ослы уже стягивались ко входу в харчевню, известную им, видимо, из поколенья в поколенье. Ровно в девять вечера она закрывалась. Ослы начинали движение к ней изо всех переулков и окрестностей города часа за два. Собравшись у входа, но не приближаясь к его крыльцу, они переминались, обменивались кивками с чуть приподнятой верхней губой, поглядывали из-за холок друг на друга — то в сторону улиц, на вновь прибывающих, то в широкий дверной проем с сумрачно-голубоватым флуоресцентным светом, где, в уже опустевшем зале, мыли полы. К половине девятого начинался их медленный танец: они выстраивались в магическую фигуру вокруг пустующего центра и наращивали вращение по часовой, то сужая, то ширя узор этой дышащей мандалы. Детородное их достоянье при этом росло, удлиняясь. Движенье на улице в этот час замирало, шли в обход и объезд. Без четверти девять ослы начинали тесниться к центру, превращаясь в кофейную гущу, все еще продолжавшую медленное затихающее вращенье. Затем наступал некий необъяснимый момент. Они задирали головы с округленными губами и будто бы дули туда — в это йодово-желтое небо. Кому удавалось — приподнимались на задних и тянулись вверх, упираясь передними в спину соседа. Тем временем эта бесформенная гуща вытягивалась в клин, острием ко входу. Первые уже стояли на ступенях, окуная головы в проем. То, что росло, удлиняясь, теперь — у всех — ткнулось в землю, деревенея. Так и стояли, чуть приподнявшись, дыбясь на этих черных просмоленных костыликах. Глядя в зады друг другу, ожидая своего часа. Все, кроме первого — полководца. То, что все еще продолжало расти из него, давно уже миновало землю и, изогнувшись, двигалось вверх, одолевая ступени. Глядя, я вспомнил юг Германии, заповедный вольер в хайдеггеровском черном лесу. Ослы — цвета сухого асфальта и ростом со здешнюю лошадь. И длинношерстные пони, игрушечные, парикмахерские, с мелированными прядями. Носясь над лугом, ослы выискивали их в траве, глядя вниз, как с бреющего полета. И с виража таранили, всаживаясь, и волоча впереди себя, и вздергивая над собой. А те, крича беззвучно, рвали, грызли воздух разболтанными головами, насаженными на смоляные колья, горящие в тряпье их тел. А потом ходили, как досаафовцы, по полю, приседали, взбрыкивали конечностями, отдувались, поглядывая на результат. А те, как ни в чем не бывало, стоят, глядя в зеркальце перед собой, пощипывают губами, прихорашиваются, маленькие парикмахерши. И идут к ограде, чуть вихляя в шубках своих на голое, брать сахар с ладони.
Ровно в девять в синеву проема вплывают первые тазы еды. Ест полководец и свита. Клин волнуется, подтягиваясь, отвердевая. Смена тазов, следующая шеренга. Полководец не покидает поле, стоит с адъютантами в стороне, у антикварной лавки, одним глазом в витрину глядит, другим — на войско. Ничего между ног, носок скатанный. В последних шеренгах идут стреноженные, полуторные. Елозят тазы по ступеням, вылизывают крыльцо. Поднимают голову, когда все кончено: тишь, никого.
Хорошо постригли. Не жарко будет. Руки у него певчие. У всех мужчин тут певчие руки — железо ли в них, огонь, вода, жизнь. А женщины? В гнездах сидят, вьют, не видно их. Узенький переулок, тупик. Три индуса во тьме корову моют. Грязью. Черпают ладонями земляную жижу и натирают бока ей, голову. Стоит, не жалуется. Была белой. Как Гоголь. Его тоже сажали в грязь, в Крыму, в Саках. Лежал по горло в этой жирной мазутной рясе. Грязь горячая, на лице испарина. Исцелялся. Где-то до “Мертвых душ”, но уже после “Диканьки”. Бюст стоит в санатории. А вокруг него по дорожкам парка церебральные инвалиды выписывают эллипсы на самоходных колясках. Они едут сюда со всей страны — в грязь, а потом садятся на бесшумные никелированные самоходки и выписывают, свесив голову набок, одинокие эллипсы вокруг него по дорожкам парка. Какая адская мука была ему, Гоголю, лежать там, в этих жирно-черных пиявочных пальцах грязи, в семь горячих слоев облепивших его от пят до горла. И это при его маниакальном страхе всего хтонического. Писал ли он матушке? Или кому другому? Есть ли упоминанья? Где? Сидел перед смертью, голый, в тазу, поджав колени, с пьявками на лице, белый, почти прозрачный, как утопленник или Дух святой. Лужа миргородская, сакские грязи, римские бани, таз-колесо.
Демографически людей, коренных, здесь все же больше, чем ослов. А коров, по сравненью с ослами, меньше. Коровы чтимы, а эти — плебс, изгои. Их не бьют, разве что палкой запустят вдогон, но ребра жалобные, дрожат, как заборчики. Не у дел они, безработные и ничьи, сами бродят, вздыхая, потом вдруг встанут, глядя перед собой, и взгляд останавливается, как часы. Вздрогнут, тронутся. Странно, первое, что приходит на ум, думая об осле, — Христос. Хлев, Рождество, въезд в Иерусалим, осанна. Потом уже Апулей и Ходжа Насреддин. А почему на ослице белой, а не на осле он въехал? Цвет понятен, но почему ослица, а не осел? Видать, аллегория. А здесь их нет. Кажется, не попадались. Как же они живут — без женщин? И что за этим стоит, какая драма? Насмерть забили их — жен, матерей — и ушли? Обет, братство? Или как у людей: дом построил, родил детей, вырастил и уходишь с котомкой из дому — глядеть в огнь, в небо, дух думать, налаживать переправу. Но те, люди, братством идут себе подобных — мужей, старцев. А эти — с детьми, мальчиками. Может, они живут с ними? Стоит, один, под трансформаторной, тот же самый. Как диод на проволочных ногах. Что ж он, никогда не выходит оттуда? Или это она — одна на народ, адаптер? Стоит в цепи, заряжается. А скотоложницы, те, что в гравюрах Средневековья вздыблены, вымешены, как тесто, с заплющенными очами и воронками ртов, это правда? Спроси у них. У двоих, этих. Стали, в витрину смотрят, переговариваются ушами: простыни, наволочки, пододеяльники, на всем ОМ вышито, оранжевым на голубом. А по-русски прочесть — ЗОЯ, чуть танцующим начертаньем.
Стучал в отель, поздно уже, часов одиннадцать, смотрел сквозь решетку, как ворочался там, вдали, на полу под одеялом... вот, выпутался, выполз, ключник. Похож на Ганди, если б тот дожил до его песочных. Йодистый череп, крылышко тела, тростинки ног. Высушенный кузнечик. Ведет к лифту. Я сам, говорю. Кивает, ждет, пока тот погромыхивает, снисходя. За семью печатями лифт, царский, женственный, времен Ашоки. Семь дверей в оборках: раздвигаешь полы, углубляешься, входишь, оправляешь подол, возносишься. Пятый этаж. Окно во двор. Двор колодцем, в нем пальма, уж не знаю каких времен, протопальма. Ветви мажут по всем окнам и оставляют их далеко внизу, под собой, вместе с этим горшком двора. Обмахивается веерами — там, в звездах. Первую ночь не спал, ловил ее за руку сквозь решетку. Она все скребла, елозила по окну, лезла в комнату этими растопыренными, надломленными, пожелтевшими. И дышала с протяжно-надтреснутым посвистом в темной мохнатой груди. Ставни закрыл, стучит в них, царапает. Да и душно. Лег, встал. И опять ее за руку ловлю сквозь прутья, когда она мажет по мне на выдохе, а я к ней тянусь, вжимаясь в прутья. Ловлю, но не удержать ее, такая сила в ней, тащит меня из прутьев — к себе, живая, дышит из тьмы звуки, слоги. Разожму ладонь — уходит, скользит вдоль стены, пишет на выдохе и, отклонившись, опять в окно, в прутья. Хлещет, рыщет и, обмякая вдруг, вниз соскальзывает. Пальцы сухие, на сухожильях висят, а все цепляется, тычет, машет. Взял нож, держу ее за запястье. То вырывается, а то льнет — на, мол, на, режь. Белка с неба спустилась по стволу, тоже сидит смотрит. Светло уж. И сомнительно. После той ночи и этой, с осликами. Ведь они что думают? Шел двуногий, пришлый, лицо белое, руки, кормил булками, резал путы, веревки падали, а ног как было восемь, так и осталось стоять, подрагивая. Булки, рука, лезвие, веревочка воспоминаний, грусть. По ночам, наверно, они будут возвращаться к той скамейке, в том же часу примерно, тянуть губы к незримой руке, белой, вздыхать, вздрагивать, глядя под ноги, и уходить, все так же, чуть спотыкаясь, годы, жизнь. И все та же ветка в окне будет слепо скользить по прутьям желтоватой культей беспалой, годы, жизнь. А меж ними что? Ты, перочинный швейцарский ножик. Тихо и неуютно как-то. Будем спать, любушка, завтра вставать рано.
Коса
Ткнулся в песок, высадил нас — тебя и меня, а больше никого в нем не было, развернулся, стал перелеском, мертвым, рысцой, от спины. Двойка, несуществующая. И дороги не было. Обвели взглядом. Этот валежник хижин, песком занесенных. Лодки меж ними, врыты заживо, с песком во рту. Лодки времени. Коса. По одну сторону — щебень воды, по другую — стекло, вязкое, голубое, дышит. Тонкая песчаная паутина, и все тоньше вдаль. Паучок солнца. Чуть подергивает за нити эти мертвые высохшие тела — хижин, лодок. Две фигуры, майки на голове, в руках обувь, идут вдоль стекла к концу мира, и расстоянье меж ними растягивается. Не оборачиваюсь, да и ты вязнешь в этом плавком воздухе, видишь меня едва ли.