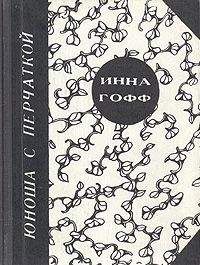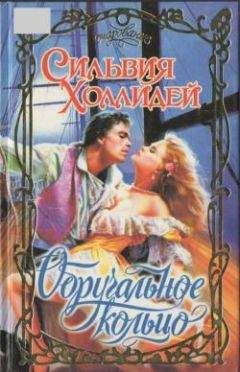Они метались по городу, нагруженные свертками и пакетами, подкреплялись на ходу мороженым и пирожками, купленными у лоточниц. Потом, вернувшись к себе, они говорили, что за миллион рублей не согласились бы жить в Москве, в городе, где все «куда-то бегут».
У Тамары всегда спрашивали дорогу. В ней угадывали москвичку. А может быть, ее лицо вызывало симпатию. Она объясняла вежливо, терпеливо. Ей хотелось, чтобы о москвичах увезли хорошее воспоминание.
Она всегда помнила о том, как приехала в Москву девчонкой из Сибири. Какой маленькой и растерянной чувствовала себя в первые дни. Она не знала Москвы. Как-то она сказала друзьям, что хочет в момент салюта быть на Кузнецком мосту. Была годовщина Дня Победы. Друзья привели ее на Кузнецкий мост. Это была узкая улица, загороженная домами. Ударил салют. Над крышами кое-где взлетали зеленые звездочки ракет. Она созналась друзьям, что ошиблась. Они еле успели добежать до площади перед Большим театром, откуда салют был виден во всей красе.
Потом выяснилось, что она спутала Кузнецкий мост с Большим Каменным. Теперь она хорошо знала Москву. Она любила щеголять старыми названиями. Говорила в троллейбусе, что сойдет «у Камерного», а не у театра имени Пушкина. Улицу Богдана Хмельницкого называла по-прежнему Маросейкой, а Кутузовский проспект – Можайкой.
Приезжие сразу принимали на веру новые названия. Самые пытливые из них колесили в автобусах с надписью «Экскурсионный». Осматривали памятник Юрию Долгорукому, основателю Москвы. Долгорукий показывал вправо. Конь, поднятым передним копытом, – чуть левей. Казалось, он уточняет место, где был основан город.
Летняя Москва походила на большую ярмарку. Иностранные флаги над павильонами международных выставок. Всемирный кинофестиваль, и толпы любопытных бездельников возле подъезда гостиницы «Москва», где разместились кинозвезды. Одни спешили на ярмарку, другие – с ярмарки.
Москвичи разъезжались. Луховицкие собирались в Болгарию, на курорт журналистов, в город Варну. Накануне отъезда они напросились в гости к Авдаковым, – Луховицкий хотел показать Олегу свою статью по кибернетике, перед тем как нести ее в журнал.
Тамара запустила квартиру за дни экзаменов, когда приходилось пропадать в институте с утра до вечера. Теперь ей пришлось немало потрудиться, чтобы придать комнатам «жилой» вид.
На Луховицкого было наплевать. Но Люка ничего не упустит. Тамара ползала по полу на коленях, натирая дощечку паркета скипидарной мастикой. Жара делала эту работу просто невыносимой.
– Да здравствуют гости, – сказал Олег. – Гости в наш век – носители цивилизации и санитарии.
Он обошел пол-Москвы, пока достал то, что Тамара наказала ему достать, – пиво и раков, и был горд собой. Серые с прозеленью раки копошились в сетке, таращили глаза от страха и удивления. Пивные бутылки, как кегли, выстроились в холодильнике.
К восьми часам – время, назначенное Луховицким, – квартира блестела. Нарциссы в вазе из толстого чешского стекла зеркально отражались полированной поверхностью стола.
Тамара приняла душ и прилегла отдохнуть, – она надеялась, что Луховицкие задержатся. Но ровно в восемь раздался уверенный звонок в дверь.
– Точность – вежливость королей, – сказал Луховицкий, церемонно целуя ей руку, и она подумала, что рука ее не по-королевски пахнет скипидарной мастикой. Этот чертов запах держится дня два, не меньше.
Люка давно не была у них и ходила по квартире с таким видом, будто пришла составить опись имущества.
– А этого кувшина я не помню, – говорила она. – И этой вазы тоже… Очень миленький получился интерьер! Только я не люблю нарциссы. Они чересчур торжественны. Надо сюда что-нибудь простенькое, интимное. Например, незабудки…
Люка была законодательницей в своем кругу. Не просто художницей-декоратором, ведь это была всего лишь ее профессия. Амплуа «женщины со вкусом» выходило за рамки профессии и было уже как бы натурой, талантом, тем, что возвышает человека над другими людьми.
– А я люблю нарциссы, – сказала Тамара. – Ну и пусть торжественны. Или это сейчас не модно? Модно все простенькое? Интимное? Вроде печеной картошки…
– При чем тут картошка? – Люка чуть заметно повела плечом. – Вы просто не в духе, детка…
Она не привыкла, чтобы ей возражали.
– А вы куда собираетесь летом? – спросила Люка, чтобы переменить тему.
– В Донбасс.
– Нет, серьезно.
Эшелоны с углем, дымящие трубы, раскаленный воздух. Когда поезд шел мимо, курортники закрывали плотней и завешивали шторками окна, чтобы не налетел уголь. Казалось, и поезд ускорял ход, спеша миновать этот промышленный район.
– Хочу в Донбасс, – сказала Тамара. – Что вы знаете о Донбассе? Там есть поселок Полыновка. Весь розовый. Три улицы. А вокруг степь. И суслики. У сусликов норки. Как будто в землю был забит колышек и его вынули.
– Не отказаться ли нам от Варны? – сказала Люка. – Боюсь, что там нет сусликов.
Она шутила. И Тамара шутила. Но у Тамары от этой шутки сжималось горло. Она каждый день перечитывала письмо Ольги Бородиной. Про Стаха в нем не было ни слова. Но все письмо было о нем. О поселке, где он жил. О людях, с которыми вместе работал. И на штампе было четко: «Полыновка». Значит, это было не только в мечтах, но и на карте. Туда ходили поезда, и в кассе можно было купить билет.
Луховицкий наседал на Олега:
– Я так и напишу: «Кибернетика – это приговор посредственности». Но не будет ли это чересчур категорично?
Олег раскачивался на стуле. Это была одна из привычек, от которых Тамара никак не могла его отучить.
– Зачем вы пишете, что возможности кибернетической машины ограничены? – говорил он, глядя в рукопись Луховицкого через плечо и продолжая раскачиваться. – Это верно лишь в том случае, если считать ограниченными возможности человека, его мозга. Ведь кибернетическая машина создана человеческим умом. И если границы его возможностей неопределимы, – а я думаю, что это так, – то неопределимы и возможности его созданий…
Луховицкий был слишком неравноценным противником, чтобы спор с ним мог стать интересным. В теннис такие, как он, никогда не играют у сетки. Они «качают», выматывая партнера вялой игрой.
– Когда-нибудь я напишу рассказ, – сказал Олег, – когда мне надоест наука и теннис. Рассказ о космическом корабле, посланном в сторону планеты Венера. Как он затерялся в пути и никто не знал о его судьбе, – сгорел он или достиг цели. И вдруг англичане приняли сигнал космического корабля. Это, приблизившись к Венере, вновь заработали датчики. Но расшифровать сигналы могли только у нас, – космический корабль «говорил» по-русски.
– Давайте писать вместе, – сказал Луховицкий.
– Согласен. Когда мне надоест наука. Пока что она надоела только моей жене.
– Мне надоели формулы, – сказала Тамара. – Отвлеченные понятия и бесконечно малые величины. Я их ненавижу с детства.
– Не капризничай. То, что ты пьешь сейчас, тоже имеет формулу. От иных формул зависит жизнь и смерть человечества.
– Тем более я ненавижу их, – сказала Тамара. – Хорошо, что ты запираешь их в сейф, уходя с работы. Я их боюсь.
– Не бойся, – улыбнулся Олег, – они в надежных руках.
– Неужели когда-нибудь свершится это безумие, – спросил Луховицкий, – атомная война?
– Это зависит не от формул, – сказал Олег. – Это зависит от людей. От нас с вами и от таких, как мы. От любви к детям и внукам. Войну могут начать только бездетные.
– Вы нас обижаете, – сказал Луховицкий. – У нас нет детей…
За столом говорили о художниках. О выставке работ молодого ленинградца, имевшей успех и вызвавшей много споров. Люка говорила, что он совсем не чувствует цвета.
Потом заговорили об авиации, – Луховицкие собирались лететь в Софию самолетом. Олег вспомнил анекдот о Туполеве. О том, как он похвалил новую модель пассажирского лайнера и сказал: «Это царь-самолет». А потом помолчал и добавил: «Но так же, как царь-пушка не стреляет, этот царь-самолет не будет летать!»
Луховицкий, как всегда, рассказывал «истории». Тамаре запомнился рассказ о Юрии Олеше. У писателя был старый друг, его звали Филипп. Давно, еще до войны, в Одессе, они прочли в вечерней газете о том что в киевском зверинце лев едва не убил мальчика, притянув его когтями к клетке. Мальчика удалось спасти.
«Представляете, Филипп, – сказал Олеша, и его лицо вещуна с умными карими глазами озарилось вдохновением. – Мальчик вырастет. Станет юношей. И настанет день, когда возлюбленная спросит его: „Милый, откуда у тебя эти шрамы?“ И он ответит ей: „Это следы когтей льва“…»
За окном, в душном мареве, светилась огнями Москва. Она фосфоресцировала. Стены домов отдавали тепло.
«Милый, откуда у тебя эти шрамы?» – «Это следы когтей льва».
Милый, отчего у тебя дрожат руки? – Это след проклятой немецкой мины…