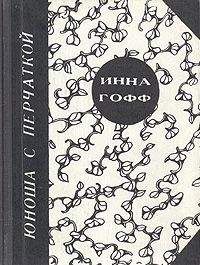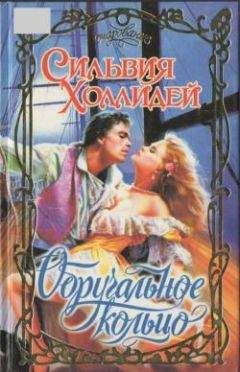Когда пили чай, она под шумок вышла в коридор. Сняла трубку, сказала негромко:
– Дайте дежурного по шахте… Станислав Тимофеевич? Как вам дежурится? Спокойной ночи!
– Спасибо.
Ей нравится его голос. Как он звучит по телефону. Спокойной ночи! Спокойной ночи всем, кто не сомкнет глаз до утра!..
Виктор Басюк не любил выходить во вторую смену. Народ с работы идет, зной спадает. Наступает пора отдыха и веселья. Вечером возле агитпункта соберется молодежь, заиграет духовой оркестр, закружатся пары в красном отблеске заходящего солнца. В молодости больше всего дорожишь вечерами, этими праздниками на закате дня, полными музыки и недомолвок, веселья и озорства. Даже после знакомства с Зиной, которая жила в Луганске и ради встречи с которой Виктор решил, не откладывая, купить мотоцикл, – даже после этого вечера возле агитпункта не утратили для Виктора своей прелести. Он знал, что нравится девушкам, что каждая из этих принаряженных девчат, усевшихся на длинных лавках, как воробьи на проводе, только и ждет, чтобы он, Виктор Басюк, пригласил ее на танец. И он выбирал самую скромную и незаметную, которая меньше всего надеялась, и танцевал с ней иногда целый вечер и на зависть полыновским красавицам.
А в последние дни он придумал новое: стал ухаживать за женой начальника вентиляции Рябинина. Звали ее Люба. Она первый год жила в поселке. Жила сама по себе, ни с кем не сдружилась. В балке гуляла одна и приносила оттуда охапки цветов. На цветы у нее была какая-то жадность. Конечно, в Москве у них за такой букет рублевик отвалишь, а то и все два. А тут рви сколько душе угодно. Все твое!
А может, и не от жадности обрывала она цветы в балке, а от скуки. Как-то Виктор встретил ее на дороге, поздоровался, попросил цветок. Она сказала: «Хоть все заберите. Мне их все равно ставить некуда!» И такое у нее было усталое, злое лицо, что Виктору стало ее жаль. Он подумал, что зла она на Рябинина, и это расположило к ней Виктора, вызвало сочувствие. Рябинин ему не нравился. Если бы у Басюка спросили, что ему не нравится в начальнике вентиляции, он бы затруднился ответить. Не нравились ему глаза Рябинина – голубые, молочные, как у теленка. И пухлые губы бантиком. Не нравилось, как он одевается, – ботинки, на каблуках. А главное, не нравилась ему профессия Рябинина, как будто нарочно придуманная для того, чтобы мешать людям работать.
Басюк не любил, когда ему мешали. Может быть, поэтому он всем сменам предпочитал ночную. Ночью никто не отвлекает. Ночью начальства меньше, а толку больше. Ночью Рябинин не рыщет по штрекам и подэтажам, а спит со своей молодой женой.
В эту ночь бригада работала как-то особенно слаженно. И наверху был порядок. Потому что дежурил по шахте Угаров. Когда он дежурил, всегда был порядок – воду забоям давали сразу, по требованию, и крепь доставляли вовремя. Потому что Угаров толковый мужик и не ему объяснять, что потерять в работе ритм еще хуже, чем потерять время.
Они работали впятером – Виктор, его подручный, бородач Стамескин по прозвищу Фидель, и проходчики Чуб, Воедило и Бабун. Ребята подобрались рослые, видные, один к одному. Когда шагали в ряд по дороге на шахту или, нарядные, в ярких ковбойках, спешили на танцы, казалось, идут родные братья, сыновья одной счастливой матери.
Они решили, что сделают в смену полтора цикла. Они бы и сделали полтора. Забой был отбурен. Валька Чуб заложил в шпуры патроны скального аммонита. Глухо грохнул подземный взрыв. Пока Басюк и Фидель смывали уголь, Воедило и Бабун приготовили крепь. Они кончали крепить, когда в забой пришел Рябинин. Свет надзорки, перекинутой через плечо на гибком шланге, метнулся, скользнул по рамам.
– Почему не ставите охранную ножку? – спросил он. – Я тебя спрашиваю, Басюк.
– Не положено, – сказал Басюк.
– Что значит «не положено»?
– Отмыли меньше трех метров.
Ребята молчали. Рябинин был прав технически. Но неприятно признавать правоту человека, который тебе не нравится. К тому же его приход сбил бригаду с налаженного темпа, нарушил ритм работы. На черта нужна эта охранная ножка? Как будто в ней спасение. Если кровля упадет, не поможет ни ножка, ни ручка. Ребята об этом не думают, а Рябинин думает. Заботится. По ночам не спит. Только еще неизвестно, о них ли Рябинин печется. Об их драгоценной жизни или о себе волнуется. О своей особе. О том, что, если придавит их из-за этой треклятой ножки, не миновать ему тюрьмы. А в тюрьму Рябинину неохота. Ох как неохота! Жена молодая, интересная. Люба, Любушка…
– В общем, так, – сказал Рябинин. – Давайте ставьте. Живо. А то рапорт Угарову подам, чтобы перевел вас в пункт на пять дней за нарушение техбезопасности. Вот так…
Он сразу не ушел, – ждал, пока начали готовить ножку. Стоял над душой. Что за человек? Уже и ночью от него житья не стало. Басюка так и подмывало спросить: «Чи вам с молодой женой скучно? Чи она вас из дому выгнала? Она такая. Может». Но ничего не сказал Басюк. Промолчал до поры. Зато в выходной, когда возле клуба собрался народ и под звуки духового оркестра поплыли по вытертой поляне первые пары, Виктор отыскал глазами Рябинина. Он стоял с Любой у края поляны и разглядывал танцующих.
Иногда он склонял голову и что-то говорил Любе, с чем она не соглашалась, качая головой. Возможно, он убеждал ее уйти. А может быть, напротив, – звал танцевать. Виктор направился к ним. Он боялся, что Люба откажется, но она пошла с ним, и они танцевали долго, пока не кончился танец.
– Вы хорошо танцуете, – сказала она. – Но я больше люблю вальс.
– Сделаем, – сказал он.
Когда музыка смолкла, он отвел ее к Рябинину. Но тут заиграли вальс. И Басюк опять пригласил Любу. И опять они танцевали долго, молча. Но их связывала общая цель – Рябинин. И Басюк, и Люба танцевали назло Рябинину. Они, не договариваясь, уловили, почувствовали эту общую цель и теперь молчали, как заговорщики.
Басюк пригласил Любу в третий раз. Люба пошла в третий. Она разрумянилась, глаза блестели. А Рябинин все стоял у края поляны, закусив пухлые губы. Уже многие наблюдали за этой комедией, – ждали драки.
Но драки не получилось. Рябинин ушел. Басюк заметил это среди танца и сказал Любе.
– Ну и пусть, – сказала Люба и сбилась. Потом еще раз сбилась. Они еще кружились, словно по инерции, – танцевать им расхотелось.
– Боитесь, что попадет? – спросил Виктор.
– Мне?! – Люба усмехнулась. – Вы не знаете Валерку. Он очень добрый. Очень. Это ему от меня попадает. Каждый день.
Она все вертела головой, – искала своего Валерку. Вся веселость ее прошла, и глаза больше не блестели. Значит, она все же любила его и сейчас жалела о сделанном.
– Я пойду, – сказала она. – Догоню его.
И она убежала. А Виктор весь вечер размышлял: за что можно любить Рябинина? Чем он ей приглянулся? «Добрый»! Глаза как у теленка, губы бантиком… А она, может, полюбила его за эти глаза и за эти губы. Как это понять? Почему к одному человеку душа лежит, а от другого – воротит? Разве только он, Басюк? Терпеть не могут Рябинина все ребята. А начальник шахты прозвал его «Утконос». Вот человек – Забазлаев. Это горняк! Вот с кого брать пример!..
В Москве было жарко. Ртуть термометра, – их окна смотрели на юго-восток, – уже с утра начинала неуклонно ползти вверх, к отметке «сорок».
На прилавках магазинов и в учреждениях дребезжали на вращающемся стержне бесшумные вентиляторы. Они перемешивали нагретый воздух, их дуновение было теплым, как живое дыхание.
В кинотеатрах вечерние сеансы шли при распахнутых дверях, и можно было слышать доносившийся с улицы шелест машин, а иногда звук грома и шум короткого буйного дождя.
Улицы высыхали мгновенно, – ртуть и ночью не опускалась ниже тридцати. Ночи были душные. Ночи большого города, охваченного стойким антициклоном. В такие ночи плохо спится. Полуодетые, босиком, люди слоняются по комнатам, обливаются под душем или просто из кружек, мечтают о сквозняках, об Антарктиде, где сейчас минус семьдесят четыре.
Москвичи изнывали. Год назад лето выдалось прохладное, шли дожди. Тогда москвичи говорили, что не видели лета. Теперь они увидели его. Они разбегались из города кто куда. Было время каникул и отпусков. Время опустевших квартир и немых телефонов. Время, когда в Художественном театре идут спектакли артистов Тамбова, а в Большом поют солисты из Саратова.
Тамара не любила это время всеобщего бегства и опустошения, когда Москва делалась суетливой, не похожей на себя. Правда, она не становилась менее людной. Город захватывали приезжие. Их «ставкой» были магазины. Неопытные устремлялись в ГУМ и Центральный универмаг. Опытные атаковали окраины. Вечерами они развлекались. Все места в ресторанах были заняты. Тянулись очереди к парикмахерским, – «быть в Москве и не подстричься?!».