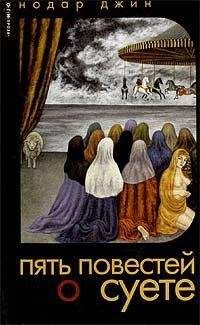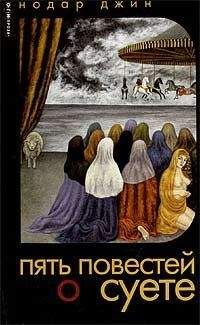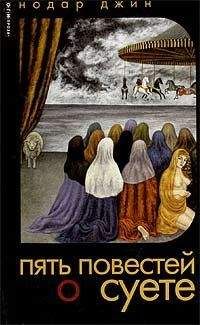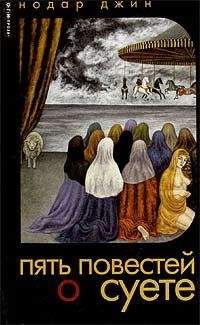— Если человек свободен выбирать, — рассудил Мордехай, — и если рисуя людей он рисует Бога, то, может быть, через это он не только не отступает от Всевышнего, а наоборот, хочет вернуться в рай…
Раввин ответил не сразу:
— Зачем же тогда мудрецы запрещают? Зачем запрещать возвращение в рай? — и, хлопнув залпом рюмку, рассмеялся. — А затем, что в раю делать нечего: оттуда уже податься некуда!
Потом он повернулся к Симантобу и добавил:
— Мальчик не соглашается со мной. Стал мужчиной.
— Знаю! — насупился тот. — Скоро — в Киев…
— Я могу и не поехать, — буркнул Мордехай.
Хава обрадовалась и не заметила, что муж огорчился, — хотя не из-за самих этих слов, а из-за того, что в глазах Лии они высекли радость.
Ночью, когда все улеглись, Лия включила ночник над подушкой и воровато раскрыла «Песню» на загнутой странице: «Заклинаю вас, девицы иерусалимские, сернами и полевыми ланями заклинаю: не будите, увы, и не возбуждайте любовь, пока она не придёт!»
Потом — на другой, тоже загнутой: «О, горе мне, если бы ты был мне брат, сосавший ребёнком грудь матери моей! Тогда, встречая тебя, я целовала бы тебя, и меня не осуждали бы!»
Испугавшись, Лия огляделась по сторонам. Стояла тишина. Только как-то очень мокро капала вода в кране на кухне и рядом дремала мачеха, шевеля во сне сухими губами. Лия присмотрелась к движениям этих губ и ей послышалось, будто Хава пыталась вышептать холодящие душу слова: «Пришла, горе тебе, пришла к тебе любовь, дочь моя и девица иерусалимская! Но он брат, и потому тебе не целовать его!»
После этих слов в небе ударил гром, и Лие почудилось, будто по крыше прогрохотала колесница пророка Ильи. Утром у неё обнаружился жар, и в бреду она произносила фразы, в которых можно было расслышать лишь отдельные слова: «девицы иерусалимские», «полевыми ланями», «целовала бы тебя». К концу дня заявился врач, но не нашёл ничего опасного.
Закрыв за ним дверь, Симантоб поспешил на кухню и вытащил из шкафа водку. Разливать не стал — пил из бутылки. Прошёл на веранду и пошарил рукой под тюфяком. Не обнаружив рисунка, обомлел, а потом проковылял обратно на кухню. Осушив бутылку, кликнул жену, а когда та появилась в дверях, рыкнул:
— Дети уже выросли, Хава! — и вонзил в пол костыль. Как если бы поставил восклицательный знак.
32. Единственный выход — начать с конца
Через месяц Лию выдали замуж за сына почтенного Йоски Зизова, Габриела. Наутро после брачной ночи жениха с невестой привезли в синагогу и подняли на помост для благословения.
Кол са-а-асон векол си-и-имха
Кол ха-а-атан векол ка-а-ала…
Мордехай шевелил губами, вторя словам свадебного гимна. В горле стоял ком, а в глазах — слёзы, из-за которых всё вокруг сливалось воедино. Никто, кроме Лии, не посматривал на него, и никто в этом половинчатом — получистом и полускверном — мире не понимал его в эти мгновения лучше неё, ибо в эти мгновения они оба постигали одну и ту же истину: Люди живут либо как принято, либо — редко и в конце — как хочется, а счастье или несчастье зависит от того, с чего начинать. Начинают все, утверждала Йоха, с первого — и поэтому ещё никто не стал счастливым. Единственный выход — начать с конца.
Скоро женили и Мордехая. Симантоб сосватал ему свою племянницу, двоюродную сестру Лии, Рахиль. Хава слезилась на свадьбе не останавливаясь, словно знала, что скоро ей предстоит умереть, выполнив свой долг перед погибшим мужем, родным отцом Мордехая, и перед Иерусалимом, хотя она и не знала что это такое.
Прошло ещё три года — и вдруг выяснилось, что отец Мордехая жив. Он попал в плен, слонялся после войны по свету и обосновался — где? В Иерусалиме! Ушёл в хасиды и открыл крохотный заводик по производству мороженого. Встал на ноги, навёл справки о семье и, узнав, что Хава вышла замуж, женился и сам на марокканской беженке. Марокканку убили в тот же год и месяц, когда скончалась Хава. Оставшиеся дни и силы отец отдал возне по возвращению сына.
Уехать к отцу Мордехай согласился сразу не только потому, что Иерусалим по-прежнему представлялся ему центром вселенной: с каждым днём своей удавшейся жизни с Рахилью он тосковал по Лие всё сильнее — и всё больше этой тоски боялся. Отца в живых не застал, но прижился к городу легко. Как если бы после тысяч прожитых им тут лет он отсутствовал в нём лишь столько, сколько ему было от роду.
Прошло ещё семнадцать лет, но всё это долгое время ушло на приближение к встрече с Лией. Приближение к тому чтобы быть счастливым хотя бы день. Прожив его как хочется, а не как принято.
Он знал, что этот день наступит, как знал, что торопить его нельзя: любое начало лучше любого конца, и ожидание начала лучше самого начала. Вмешалась, как он и надеялся, судьба — и Мордехай оказался в Киеве, откуда ему разрешили отправиться в Тбилиси почтовым рейсом, ибо пассажирского в ту ночь не было.
33. Аппетитный символ страданий
Пробудившись, Лия уже не смогла возвратиться в сон и начала жить. Оделась и поставила варить пасхальные яйца.
Вечером начнётся праздник.
Вспомнилось детство: отец Симантоб, его волосатые руки и зычный голос. Из глубокой миски на столе вздымается пористой горкой сочная смесь из перемоленных каштанов, орехов и фруктов — харейсот, аппетитный символ страданий на пустынном пути к свободе, на котором сорок лет не было ничего кроме знойного ветра, перегонявшего с места на место свалявшийся песок и бродячие кусты колючей травы. Лия не спускает с миски глаз. Глотая слюны, она с нетерпением ждёт пока отец завершит своё длинное, как исход, пасхальное сказание — и, забыв о сухих кустах, можно будет приступить к трапезе, открывавшейся щедрым мазком харейсота на ломтике мацы.
Голод, впрочем, начисто забывался когда отец приступал к тому месту в пасхальном молитвеннике, где всей семье предписывалось выкрикивать весёлое слово «дайену!»
Отец читал вслух: «Если бы Бог вывел нас из Египта, не учинив даже над ним суда, мы остались бы — что?»
И все, смеясь, кричали: «Дайену!» — «Довольны!»
Отец продолжал: «Если бы Бог просто учинил суд над Египтом, но не над его божками, мы остались бы — что?»
И все: «Дайену!»
«Дайену!» — хихикала Хава и утирала счастливые слёзы. «Дайену!» — рычал отец и стучал костылём. «Дайену!» — визжали гости и хлопали в ладоши.
«Дайену! Дайену!» — бубнил Мордехай, Мордехай, Мордехай…
34. Праздник начинался буднично
Мордехай вышел из гостиницы рано.
На безлюдной улице пыхтели поливальные машины и сновали сонные троллейбусы с прежними номерами. На прежнем же месте стояли и платаны, а в воздухе шевелился знакомый аромат цветущих на грядках трав. Ничто не изменилось. Похожие на мыслителей лепные Атланты по-прежнему страдали под тяжестью вычурных балконов. Как и раньше, вместо отбитых кем-то фиговых листочков эти оскоплённые гиганты демонстрировали прохожим тихие ласточкины гнёзда.
Мордехай был растерян от того, что праздник начинался буднично.
Это состояние нарастало быстро, и каждую минуту могло сорваться в грусть. В пустых витринах пустых магазинов висели плакаты, извещавшие о том, что иного пути, кроме как к счастью, у человека нету.
Мордехай не мог сообразить с чего же следовало начинать этот день или — кто знает? — эту новую жизнь. Протарахтел мотоцикл с вентилятором на руле и с широкой плетёной корзиной на заднем сидении. Корзина была перекинута льняным полотенцем, скрывавшим под собой мацу для вечернего сэдэра, — белые сухие пластины из пресной муки, с тесными пунктирными строчками на них, таившими в себе письмена, постижимые только сердцем.
Всё — как было и как может быть лишь в этом городе, где к рулю велосипеда прикручивают вентилятор только потому, что кондиционер — труднее.
Остановившись в коротком раздумье, Мордехай вдруг повернул назад, в гостиницу, выпросил у горничной две стеариновые свечки и помчался в такси на старое кладбище.
35. Утро стало густеть от запаха нагревшейся хвои
Над могильной плитой Хавы стояла старая берёза. Шуршала на ветру молодыми листьями. Когда-то он, Мордехай, и посадил эту берёзу вместе с Симантобом, который покоился рядом под базальтовым надгробием. Ему вспомнились простые слова из Талмуда, показавшиеся теперь важными: «Если лягут двое, то тепло им, а одному как согреться?»
Склонив колени, Мордехай приложился губами сначала к могиле матери, потом — Симантоба. Солнце в небе окрепло, и утро стало густеть от запаха нагревшейся хвои. Сперва воздух молчал и ничего с ним не происходило, но затем — все сразу — застрекотали кузнечики. Одни мелко и отрывисто, словно дырявили густое пространство, а другие мягко и ровно, как если бы, наоборот, заштопывали дырки.
Мордехай неторопливо расхаживал между прижимавшимися друг к другу памятниками и дивился не только тому, что даже на кладбище петхаинцы согревали и теснили один другого, а тому ещё, что именно здесь, в земле, оказалось так много людей, которых он рассчитывал встретить вечером в синагоге.