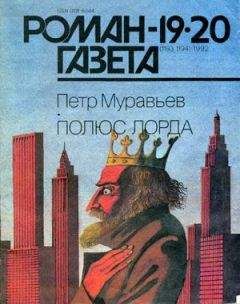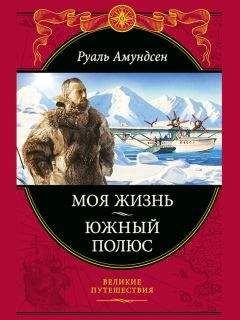Вот это другой разговор! Я выхватываю у матери плитку и несусь в гостиную. Утенок – на полке; я беру его и бегу назад, ловко увертываясь от моей родительницы, которая кричит мне вслед:
– Сумасшедший! Ты себе нос расшибешь! Странно, я чувствую необъяснимую тревогу -
было ли это предчувствие? – и, прыгая через три ступеньки, мчусь вниз…
…Воспоминания прерваны голосом Салли; не той маленькой Салли, а этой, что здесь, рядом:
– Мне пора, Алекс. Уже три часа.
Но я не могу остановиться.
– Подожди, одну минуту!…
…Да, вот… я выскочил на улицу и… застыл на месте.
Салли стояла на нижней ступеньке кирпичной лестницы, а повыше, крепко держа ее за руку, сидел Грязный Джо.
Это был отвратительный парень; лет пятнадцати, огромного роста, с глупым злым лицом, он наводил страх на всю округу… Взрослые избегали его, а мы, детвора, улепетывали, едва его завидя. Он душил кошек, травил собак, переворачивал мусорные баки; когда сталкивался с нами, отнимал или ломал игрушки, всячески над нами глумился, а то' и поколачивал.
Таков был Джо, в лапы которого попала Салли. Я стоял скованный страхом, безмолвно, наблюдая происходящее.
– Скажи же, – настаивал на чем-то мучитель, – и я тебя отпущу!
– Я… бо… юсь… – всхлипывала Салли.
– Ты опять за свое! – Свободная рука Джо ухватила девочку за волосы и рванула вниз. Бедняжка вскрикнула от боли и ужаса.
Я хотел броситься к ней на помощь, но ноги мои приросли к земле; хотел закричать, но звук не выходил из горла. Да и на улице не было ни души, и помощи ждать было неоткуда. Парализованный страхом, я бессильно наблюдал затянувшуюся агонию.
– Скажи же, глупая идиотка! Скажи только: «ударь меня!» – со зловещей ласковостью уговаривал Джо свою жертву, а сам не переставал тянуть ее за волосы.
Салли больше не всхлипывала; она странно побелела и только судорожно глотала воздух. Кукла болтала ногами в повисшей руке.
– У…дарь… ме…ня!… – выдавила она наконец с неимоверным усилием.
– Так тебе этого захотелось? – Джо отпустил ее волосы. – Что ж, это можно устроить! Получай! – И он принялся бить Салли по щекам, спокойно и методично, по одной, по другой, так, что голова у нее болталась из стороны в сторону, совсем как у ее тряпичной куклы.
Сознаюсь, страх мой был так велик, что я даже сейчас готов был обратиться в бегство. Да и что я мог сделать?
Но этого не случилось. Неожиданно для себя, пронизанный незнакомым чувством, я рванулся изо всех сил и, освободившись от свинцовых гирь, повисших у меня на ногах, с рычанием ринулся к месту действия.
Как ни мал был я, мой внезапный натиск ошеломил негодяя. Он выпустил свою жертву и повернулся ко мне. Я успел схватить его за волосы одной рукой и за лицо – нос и губы – другой. Это открыло меня снизу. Он ударил меня кулаком в живот, и пребольно, так что руки мои тотчас разжались, да и весь я обмяк и, обезволенный, стоял на коленях, не в силах пошевельнуть рукой. Джо толкнул меня в грудь, и я как мешок скатился по ступенькам на улицу. Но в следующий момент я был на ногах и снова бросился в бой.
Впрочем, не уверен, можно ли было назвать это боем. Скорее это походило на избиение, потому что Джо был, по крайней мере, вчетверо сильнее; мои тумаки вызывали у него смех, тогда как я от каждого удара отлетал на пять шагов.
Но вот военное счастье улыбнулось мне: изловчившись, я как кошка прыгнул на врага и, обхватив его руками за шею, погрузил зубы в мякоть его уха. Как он закричал! То есть я в жизни не слыхал такого противного крика!
Взбешенный, с дикими ругательствами, он оторвал меня от себя и с силой, как щепку, отшвырнул в сторону. На момент передо мной промелькнуло его перекошенное яростью, залитое кровью лицо, затем я почувствовал страшный удар в спину; острая, как электрический шок, боль съежила меня до размера ореха, и я потерял сознание…
Вот, собственно, и все. Я, помнится, пролежал два месяца как живая мумия, похороненный в гипсовом футляре, а затем… затем, как-то, случайно, я подслушал разговор между родителями. Отец сказал тихо:
– Доктора предупреждают, что это может отразиться на его росте…
Салли устало поднялась с подушки и посмотрела на часы…
– Мне пора, Алекс! Выйди, мне нужно одеться. Я молча вышел.
Уже прощаясь на вокзале, она неожиданно обернулась.
– Я… ты… – Она запнулась и не могла вымолвить слова.
– Что? Что ты хотела сказать?
– Я хотела спросить. Только не подумай чего-нибудь… – Она совсем смешалась, на щеках ее всплыл румянец.
– Говори же!
Еще момент она колебалась, а потом, совсем шепотом:
– Когда это было… ну, знаешь… ты думал о той?
Я посмотрел ей в глаза: там дрожали ожидание и страх.
Я отвечал:
– Нет, я ни о ком другом не думал.
Салли спрятала глаза, поцеловала меня в щеку и, повернувшись, пошла к автобусу. Я видел, что она едва сдерживает походку.
Проводив глазами автобус, я медленно поплелся домой. Не скажу, чтобы торопился: ведь дома меня ждало не только одиночество, не только дотошные воспоминания о вчерашнем. Теперь ко всей этой каше прибавилось еще что-то и это что-то нестерпимо ныло внутри.
Хоть я и жил всегда самообманом, каким с успехом прикрывал свои ошибки, теперь я снова и снова возвращался к мысли, что поступил глупо и бесчестно. Ведь эта девочка была моей последней опорой, моим духовником и советником, в ком я всегда черпал душевную силу.
Как мог я так нелепо ее унизить, сделав ее игрушкой случайной прихоти, моего капризного воображения?! При мне, жалея меня, она и виду не подала, какую рану унесла с собой; но я-то хорошо знал – какой ценой расплачиваются такие за свои ошибки!
А отец? Как бы я к нему ни относился, я всегда мог быть уверен, что он меня не предаст и подлости в отношении меня не сделает. И вот чем я ему отплатил!…
Я привык жаловаться, что мне не везет. Не верьте мне, это далеко не всегда так. Вот как и теперь: когда я находился уже у последней черты, готовый на что угодно, – потому что все, понимаете ли, все рисовалось мне в самом безвыходном виде, неожиданно зазвонил телефон.
Он редко подает голос, мой маленький черный сожитель; он может молчать днями, неделями, месяц, и молчание у него недоброе, намеренное, таящее в себе угрозу. Я больше не доверяю ему, то есть его молчанию, потому что это просто смешно, это дико себе представить, чтобы никому на свете не было до тебя никакого дела!
Иногда его неподвижность становится нестерпимой, и тогда я быстро снимаю трубку и, проверяя, подношу к уху. Напрасно, он хитрей и проворней меня, из трубки уже доносится торжествующий писк – линия свободна! Я, спеша, накручиваю последнюю цифру и, услышав чужой, подозрительно чужой голос, поражаюсь маниакальному коварству моего молчальника. Я знаю, он презирает меня, стыдится нашего союза, моей малости и ненужности, невольным участником которых я его сделал. Он брезгливо, с отвращением передает мои послания, он искажает их как только может, так что в последнее время никто не узнает моего голоса. Что ж, когда-нибудь он пожалеет об этом, когда-нибудь… А впрочем, чего я разбушевался?! Ведь вот же, звонит!
Голос в трубке был настолько незнакомый, что я даже испугался, что это не мне. И чтобы продлить связь, я заторопился:
– Да, конечно, узнаю… Дайте вспомнить… Вы… – Но ничего вспомнить не мог…
– Это я, Кольдингам! – донеслось с другого конца. Нет, имя было незнакомое. Я что-то пробормотал, усиленно вспоминая.
Мое смущение передалось собеседнику. Он нерешительно спросил:
– Вы – Алекс Беркли?
– Конечно, – обрадовался я, – он самый. Но где мы с вами встречались?
Он засмеялся.
– Если уж быть точным, то – в воздухе! Помните наш полет в Майами?
Теперь я вспомнил, а вспомнив, сразу овладел собой.
– Как же, помню, и разговор наш помню, и про остров не забыл, – отвечал я, повеселев.
– И отлично, – подхватил Брут. – Послушайте, вы сейчас не заняты?
– Ничуть, а что?
– Да вот, хотел потолковать с вами о разных разностях.
– Так за чем дело стало? Где вы находитесь?
– Представьте себе, совсем неподалеку – возле Четырнадцатой улицы.
– Тогда приезжайте сразу. Буду рад. Что, не поздно ли? Нисколько! Ведь завтра суббота. Итак, до скорого. Это одиннадцатый этаж.
Минут через двадцать Брут входил в мое жилище, а еще через десять – безраздельно завладел им. Была в этом большом красивом человеке необъяснимая сила, проявлявшая себя не открыто, а подспудно; была какая-то целостность, то есть органическое совпадение душевных качеств с внешними, с манерой говорить, передвигаться, прикасаться к
предметам; была, наконец, удивительная способность оставлять на всем свой отпечаток, будь то вещи, темы или люди. Вот он сел в кресло, и кресло срослось с ним, стало креслом Брута Кольдингама. Или облокотился на книжную этажерку – и мне тут же подумалось, что этажерка была сделана и даже задумана для того только, чтобы на нее мог облокотиться мой новый знакомец.