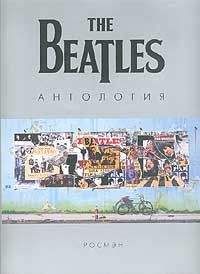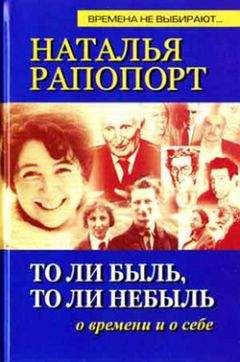Выехав на шоссе, я разогнал свой «миджет» до ста пяти миль в час. У меня была электробритва на батарейках, и я, разумеется, тщательно побрился в машине и сменил рубашку, прежде чем чинно войти в офис на Стейт-стрит. Было всего лишь восемь утра, а в приемной уже сидело несколько солидных бостонских джентльменов, ожидавших аудиенции у Оливера Барретта Третьего.
Я и глазом не успел моргнуть, как секретарша отца, знавшая меня в лицо, доложила обо мне по селектору. Но ответа не последовало.
Вместо этого в дверях появился Барретт-старший собственной персоной.
– Оливер! – произнес он.
Я теперь стал обращать внимание на внешность людей и потому сразу заметил, что отец немного бледен, что волосы его поседели (и, кажется, поредели) за три года.
– Входи, сын, – сказал он. Интонацию я толком не понял, поэтому просто вошел в его кабинет и сел в кресло.
Мы с отцом посмотрели друг на друга, потом стали разглядывать мебель. Мой взгляд упал на письменный стол, на ножницы в кожаном футляре, на нож для бумаг с кожаной ручкой, на фотографию матери, сделанную много лет назад. На мою собственную фотографию (в день окончания колледжа).
– Как дела, сын? – спросил он.
– Хорошо, сэр.
– Как Дженнифер?
Я не стал отвечать ему, чтобы не лгать. Хотя ведь причина была именно в Дженни. Не найдя, что сказать, я сразу выложил, зачем пришел.
– Отец, мне срочно нужно пять тысяч долларов в долг. Причина серьезная.
Он посмотрел на меня. И как будто кивнул. Так мне показалось.
– Итак? – сказал он.
– Что?
– Я могу узнать эту серьезную причину?
– Нет, отец. Просто одолжи мне эти деньги. Прошу тебя.
У меня было такое чувство – если, конечно, Оливер Барретт Третий вообще понимает, что такое чувства, – что он действительно готов был дать мне денег. И еще я почувствовал, что нотации он мне читать не собирается. А просто хочет… поговорить.
– Разве Джонас и Марш тебе не платят? – спросил он.
– Платят.
Меня подмывало сказать ему, сколько мне платят, – пусть знает, что я установил рекорд среди выпускников моего года. Но потом я подумал – раз он знает, где я работаю, то наверняка знает, и сколько получаю.
– И кроме того, она преподает, не так ли?
Значит, не все он знает.
– Не называй Дженни «она», – вскипел я.
– Прости. Дженни ведь тоже работает? – вежливо поправил он себя.
– Пожалуйста, отец, речь не о Дженни. Дело касается только меня. Очень важное личное дело.
– Что, проблемы с какой-нибудь девушкой? – спросил он, не меняя интонации.
– Да, – сказал я. – Да. Дай мне денег. Пожалуйста.
Я ни секунды не думал, что он мне поверил. Но он, по-моему, и не хотел знать. И вопросы задавал, только чтобы… поговорить.
Отец выдвинул ящик стола и достал чековую книжку в обложке из кожи – такой же, как та, из которой были сделаны ручка ножа и футляр для ножниц. Он открыл книжку медленно – не для того, чтобы помучить меня, не думаю, – просто хотел потянуть время. Найти, что сказать. Что-нибудь не обидное.
Он выписал чек, вырвал его из книжки и протянул мне. С опозданием на долю секунды я сообразил, что должен протянуть руку навстречу его руке. Отец смутился (как мне показалось), отдернул руку и положил чек на край стола. Он взглянул на меня и кивнул. Лицо его словно говорило: «Вот, возьми, сын». Но вообще-то он только кивнул.
Не то чтобы я хотел уйти, нет. Но тоже не мог придумать никакой достаточно безобидной темы для разговора. Мы ведь не могли сидеть так и дальше – желая поговорить, но боясь даже посмотреть друг другу в глаза.
Я подался вперед и взял чек. Да, ровно пять тысяч долларов. Подписано: «Оливер Барретт Третий». Чернила уже высохли. Я аккуратно сложил чек и положил в карман рубашки, потом встал и поплелся к двери. Нужно было сказать… Хоть что-то. Дескать, я понимаю, что ради меня нескольких очень важных бостонских персон (а может, даже вашингтонских) заставили протирать штаны в приемной. И добавить, что если нам все-таки есть о чем поговорить, то я пока мог бы поторчать в этой самой приемной, а он бы отказался от приглашения на ланч, и тогда…
Приоткрыв дверь и остановившись на пороге, я собрал все свое мужество, поднял на него глаза и сказал:
– Спасибо, отец.
Самая трудная задача – рассказать обо всем Филу Кавильери – выпала, конечно же, мне. И понятно почему. Я боялся, что старик с ума сойдет от горя, а он просто запер дверь своего дома в Крэнстоне и переехал жить ко мне. Все люди борются с отчаянием по-разному. Фил выбрал уборку. Он беспрестанно мыл, скреб, чистил, полировал. Я не особо понимал мотивы такого поведения, но Господь с ним – пусть что хочет, то и делает, лишь бы ему было легче.
Может быть, он хочет навести порядок в доме, чтобы Дженни могла вернуться домой? Может быть. Бедняга. Он просто отказывается принимать реальное положение вещей. Сам он ни за что не признался бы, но я-то знаю, что у него в голове.
Ведь и я думаю о том же.
Как только Дженни забрали в больницу, я позвонил старине Джонасу и объяснил, почему не смогу приходить на службу. Я притворился, что опаздываю и потому не могу долго говорить, так как знал, насколько он огорчится. С тех пор мой день стал делиться на время посещения больницы и время для всего остального. Разумеется, важнее было первое. Возвращаясь от Дженни, я по инерции ужинал, смотрел, как Фил (в очередной раз) вылизывает до блеска квартиру, и ложился спать. Но уснуть не мог, и от этого не помогали даже выписанные доктором Аккерманом пилюли.
В один прекрасный день я услышал, как Фил, который мыл посуду на кухне, пробормотал, обращаясь сам к себе: «Я больше так не могу». Я ничего не сказал ему, но про себя подумал: «Зато я могу. И кем бы ты там ни был, Господь Всемогущий, я прошу, пусть все это длится как можно дольше, я готов терпеть до бесконечности. Ведь Дженни есть Дженни!»…
…В тот вечер она выставила меня из палаты. Ей захотелось поговорить со своим отцом «по-мужски».
– На это совещание допускаются только американцы итальянского происхождения, – сообщила Дженни. Лицо ее было таким же белым, как и подушки, на которых она лежала. – Так что вон отсюда, Барретт.
– Хорошо, – сдался я.
– Только не уходи далеко, – добавила она, когда я уже дошел до двери.
Я вышел в холл. Через какое-то время появился Фил.
– Она сказала, чтобы ты тащил свою задницу в палату, – прошептал он, и в его голосе я уловил какую-то глухую пустоту. – Я – за сигаретами.
Когда я вошел, первыми словами Дженни была фраза:
– Закрой эту чертову дверь!
Я подчинился, а когда подходил к кровати, вдруг разглядел весь этот кошмар: капельница, прозрачная трубка, ведущая к правой руке Дженни, которую она старалась не высовывать из-под одеяла. Я не хотел видеть ничего этого! Только ее лицо. Каким бы бледным оно ни было, ее взгляд по-прежнему сиял.
И я молниеносно оказался рядом. Дженни проговорила:
– А знаешь, мне совсем не больно, Олли. Словно медленно падаешь с обрыва – вот на что это похоже.
Внутри меня что-то оборвалось. Нечто бесформенное подбиралось к горлу, тот ком, от которого обычно плачут. Нет. Ни за что на свете. Сдохну, но не заплачу.
Говорить я, правда, тоже не мог, только кивать. И я кивнул.
– Ерунда, – произнесла Дженни.
– М-м? – из меня исторглось скорее какое-то мычание, чем связная речь.
– Нет, ты понятия не имеешь, как это – упасть с обрыва, дорогуша. Ты в своей чертовой жизни ни разу не падал.
– Падал. – Тут ко мне вернулся дар речи. – Когда встретил тебя.
– Ах да-а… – Лицо Дженни озарила улыбка. – «О, что за паденье это было!..» Откуда эта строчка?
– Не знаю, – ответил я. – Может, Шекспир?
– Да, но кто это сказал? – дрожащим голосом спросила она. – Господи, я ведь даже не могу вспомнить, из какой это пьесы, хотя закончила Рэдклифф и такие вещи должна помнить. Ведь я знала наизусть нумерацию всех произведений Моцарта в каталоге Кехеля.
– Подумаешь, большое дело, – сказал я.
– Да, большое! – возразила она. А потом, нахмурившись, спросила: – А под каким номером идет концерт в си-минор для фортепиано с оркестром?
– Я посмотрю, – пообещал я.
И я вправду знал, где посмотреть. Каталог Кехеля стоял на полке рядом с роялем. Завтра первым делом скажу ей номер.
– А ведь я когда-то это знала, – сказала Дженни. – Правда. Когда-то я это знала.
– Слушай, – произнес я голосом Хамфри Богарта, – ты что, хочешь поговорить о музыке?
– А ты предпочитаешь говорить о похоронах?
– Нет. – Лучше бы не перебивал, ей-богу!
– Кстати, их мы с Филом уже обсудили. Ау, Олли?
Я отвернулся.
– Да, я слушаю, Дженни.
– Я сказала, что он может заказать католическую мессу. Ты же не против? О’кей?
– О’кей, – ответил я.
– О’кей, – повторила она. Я почувствовал облегчение, потому что самое тяжелое было уже сказано. Ох, как я ошибался!
– Послушай, Оливер. – Голос Дженни звучал мягко, почти нежно: она всегда говорила так, когда злилась. – Сделай милость, перестань себя винить!