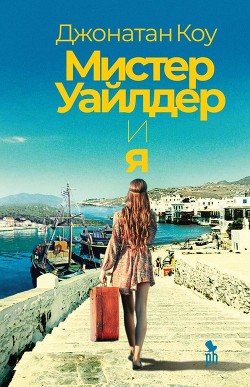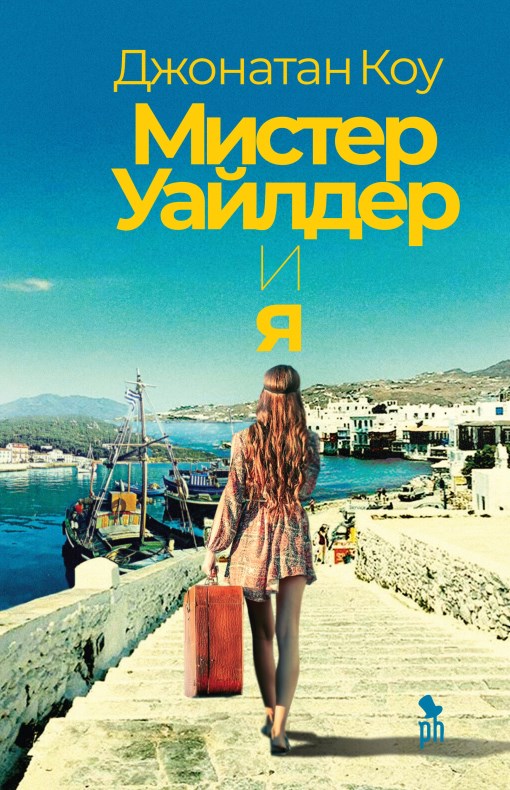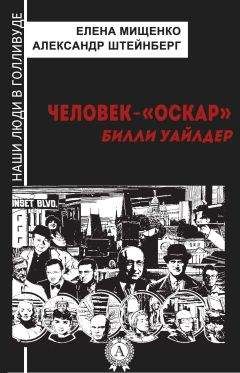Развалившись в креслах, мы поболтали минут десять о всяких пустяках, а затем Мэтью погрузился в чтение. И читал он не что-нибудь, но сценарий «Федоры». Экземпляр его матери, надо полагать. Он дочитывал последние страницы, а закончив, со вздохом захлопнул папку.
— Тебе не понравилось? — спросила я, когда он швырнул папку на пустовавшее сиденье между нашими креслами.
Ответил он встречным вопросом:
— А тебе?
— Я его до сих пор не прочла, — честно сказала я. — Мне не дали экземпляра.
— Хм, — отозвался он, и я не сумела расшифровать, что означало это «хм». Далее, вместо критического разбора, которого я от него ожидала, он заявил: — Ну, это не тот фильм, какой бы я хотел снять.
Его слова меня всколыхнули:
— Ты хочешь снимать кино?
— Конечно. А кто не хочет?
И сколь бы стыдно мне ни было, соврать я не смогла:
— Я не хочу.
— Не хочешь?
— Нет.
— Но если ты чувствуешь, что тебе есть что сказать миру, каким еще образом ты сможешь высказаться в наше время? Стихами? Никто и слушать не станет. Книгами? Никто их не читает. Зачем писать роман для двух сотен человек, когда можно обратиться к многомиллионной аудитории?
— Но дело в том, — ответила я, — что лично мне нечего сказать миру. Как и большинству людей.
— Тяга к творчеству присуща каждому, — возразил Мэтью. — Я в это твердо верю.
— Что ж… — Во мне нарастало желание доверить ему мою страшную тайну. — Я пишу музыку.
— Ага! — торжествующе воскликнул он. — Ты законспирированный музыкант. Играешь на каком-нибудь инструменте, да?
— На пианино.
— И какую музыку ты играешь?
— Ну, кое-что из классики, иногда джаз… Но в основном мою собственную музыку. Маленькие вещички, которые сама сочинила.
— Что лишь доказывает мою правоту.
— Да, но… это еще не значит, что мне есть что сказать миру.
— Ладно, — не сдавался Мэтью. — Наверное, я не совсем правильно выразился. Возьмем, к примеру, искусство… любое произведение искусства, — оно как… зеркало, и мы смотрим на то, что в нем отражается. Фильм — тоже зеркало, в котором отражается наш мир, так? Главное — и это очень важно, — чтобы зеркало было обыкновенным, простым и кристально чистым. Их зеркало… — он махнул рукой, указывая на сценарий, — такое старомодное и такое шикарное… Будто его поместили в толстенную, резную, позолоченную раму, и она настолько отвлекает внимание, что не получается толком разглядеть, что же в этом зеркале отражается.
Справедливо ли это по отношению к мистеру Уайлдеру и мистеру Даймонду, я не могла судить, но само высказывание нашла необычайно прозорливым. На Мэтью я взглянула с восхищением, и вдруг до меня дошло, к какой лиге он принадлежит.
— Ты — один из юнцов бородатых.
— Что?
— Мистер Даймонд их так называет. Новое поколение молодых режиссеров. Они все бородатые, хотя на самом деле еще юнцы.
Мэтью усмехнулся иронически, испытующе, отчего мое сердце затрепетало.
— Смеешься над моей бородой?
Встревожившись, не обиделся ли он, я затараторила:
— Нет, нет, нет. Я совсем не об этом.
— Я ведь понимаю, борода у меня довольно жалкая. Отращиваю ее уже три недели.
— Речь не о твоей бороде, — настаивала я. — И потом, — более вкрадчиво (я начала осваивать искусство флирта), — мне она нравится, честное слово. Тебе идет.
Он снова усмехнулся, на сей раз признательно, и ласково почесал свою бородку.
— Ты так думаешь?
Я ничего не ответила, только кивнула, и тогда он протянул мне сценарий:
— Ты должна это прочесть. Я бы не прочь обсудить с тобой этот опус. По-моему… — он словно готовился сказать нечто важное или даже судьбоносное, — у тебя интересный образ мыслей.
Я надеялась на несколько иной комплимент. Но пока и такой сойдет.
Вряд ли я запомнила наш разговор дословно, но беседовали мы, несомненно, о кино. То были первые па в нашем танце. И я была абсолютно уверена, что этот танец рано или поздно приведет нас куда-нибудь, но в то же время не испытывала искушения подстегнуть ход событий, как, судя по всему, и сам Мэтью. На данный момент мы довольствовались тем, что репетировали первые пробные движения, предоставив странному повороту событий, сблизившему нас, самому творить свою особую, неотразимую магию — и возможно, не без помощи острова Лефкада.
Многоквартирный дом, в котором нас всех поселили, имел поразительную особенность: здание было недостроенным. В 1977-м туристы только начинали осваивать Грецию, а в Нидрионе отдыхающих набиралось совсем мало, потому что попасть туда любым нормальным способом — на машине, поездом, самолетом — было затруднительно. Постепенно ситуация менялась, а поскольку туристы становились все отважнее и рассказы об этом прекрасном и неведомом уголке Греции множились, застройщики принялись возводить новые здания настолько быстро, насколько могли. В нашем случае они заверили продюсеров фильма, прижав руку к сердцу, естественно, и с искренним рвением в голосе, что к началу июня, когда киногруппа приедет в Нидрион, все квартиры будут обустроены. Но, как и следовало ожидать, слова они не сдержали, и по приезде мы обнаружили, что нам придется жить в квартирах с окнами, в которых нет стекол. Меня это не слишком беспокоило, и зачем мне кондиционер, когда имеется его натуральная разновидность, но кое-кто из съемочной группы жаловался и возмущался — хотя бы потому, что от комаров по ночам спасу не было. Сильнее прочих мучился мистер Даймонд, подозревала я; жили мы на одном этаже, и теперь ему не давал спать по ночам не только опоясывающий лишай, но и комариные стаи. Порой я слышала, как среди ночи он, громко ругаясь, лупит ботинком по стенам и мебели, пытаясь умертвить обнаглевших насекомых, которым он, кажется, особенно пришелся по вкусу.
Продюсеры наняли по меньшей мере дюжину местных шоферов; почти никто из них не говорил по-английски, и я тратила уйму времени, переводя как водителям, так и пассажирам. У мистера Уайлдера был личный шофер, у мистера Даймонда тоже, как и у мистера Холдена и мисс Келлер, а также еще у одной дамы со значительной ролью в фильме, немки по имени Хильдегард Кнеф. (Между прочим, я так и не поняла, которая из двух ведущих женских ролей была заглавной, и позднее до меня дошли слухи, будто обе актрисы непрестанно и яростно ссорились, выясняя, кто из них подлинная звезда фильма.) Этот немалый автопарк казался мне редкостной экстравагантностью, потому что, кроме пристани на берегу, находившейся в трехстах метрах от нашего дома, ездить на острове было некуда. От пристани паром доставлял нас на основную съемочную площадку — к величественной вилле на крошечном острове Мадури, из Нидриона туда можно было добраться на катере минут за десять.
Паромщик Филиппос, будучи малым обаятельным, мигом подружился со всей съемочной группой, а кроме парома, он управлял собственным катерком под названием «Сула». На второе утро в Нидрионе мистер Уайлдер решил снять его в фильме. В той сцене, когда персонаж мистера Холдена, наняв лодочника, впервые тайком едет на виллу Федоры. Филиппос, разумеется, был вне себя от радости, и ничто его не смущало: ни камеры, на него нацеленные, ни звуковая аппаратура, записывающая производимый им шум, ни толпа местных жителей, среди которых было много его друзей, что подбадривали его криками либо давали шутливые советы. Он даже позволил гримерше, когда та закончила с мистером Холденом, припудрить ему лоб под громкий хохот и насмешки приятелей, сгрудившихся на причале.
Лефкада — остров холмистый, естественное освещение меняется каждый час, и на съемках постоянно приходилось ловить подходящий момент. Поэтому мистер Уайлдер свел свою режиссуру к минимуму, торопливо расставив всех по своим местам. Впрочем, сцена была несложной. Мистер Холден является на пристань, Филиппос подает ему руку, помогая спуститься в катер, заводит двигатель, и они отчаливают.
Но когда мистер Уайлдер изготовился уже крикнуть «Мотор!», Филиппос, стоя на дне катера, помахал ему, давая понять, что у него возник вопрос. Ассистент режиссера подошел к нему и, вернувшись, отрапортовал: