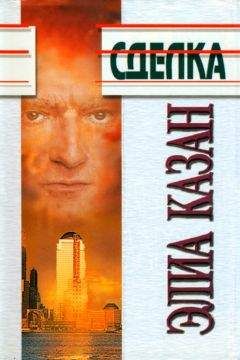По-моему, служанка Ирэн вынесла тяжелое моральное испытание. Старушка была что надо, вполне счастлива в цепких руках Абиссинской баптистской церкви. Договор с ней предусматривал, что кто-то из нас должен был возить ее каждое воскресенье в церковь, иначе она не работала по выходным. И ее этические нормы были твердыней. Но самое тяжкое испытание морали — это дилемма между двумя моралями, в данном случае между своим достоинством (ясно, что сейф не ее ума дело, даже если до этого случая он и бывал незапертым, какое вообще отношение она к нему имела?) и солидарностью пола, имеющей один-единственный логический вывод: наставлять мужей на путь истинный. Должно быть, Ирэн нелегко дался выбор. Почему одна мораль перевесила в ее душе, я так и не узнал, но она отдала снимки Флоренс, видимо, решив, что это наиболее правильный выбор. Всю жизнь я страдал от тех, кто поступает правильно.
Но Ирэн недоучла Флоренс. Заметьте, жене служанка нравилась. Ирэн была старательна и безупречно честна, а такие служанки на дороге не валяются. Она действовала правильно, преданная дому и воинственно настроенная к гулящим мужьям (и к своему гуляке тоже). Но роли это уже не играло. Флоренс выгнала ее тем же утром. Велела собираться и выметаться. Через час после события Ирэн уехала из нашего дома навсегда. Флоренс не потерпела в доме служанки, сующей нос не в свои дела.
После ухода Ирэн Флоренс осталась с фотографиями наедине и долго и пристально вглядывалась в них. За ланчем я сбежал домой под наспех придуманным предлогом. Флоренс встретила меня у входа и сообщила, почему она прогнала Ирэн. Затем вскинула глаза на меня. И уйти от них мне было некуда.
Флоренс бродила по дому — я не стал ходить за ней по пятам, говорить о чем-то было бесполезно. По нашим с Гвен глазам на тех карточках все читалось с предельной откровенностью. Вы видели когда-нибудь кота, когда он занят любовью? Да, да, некоторые из фотографий выглядели далеко не игриво. И Флоренс просто должна была задаться вопросом: как же давно он не смотрел такими глазами на меня? Итак, какого дьявола я сделал эти фотографии? Любовь превратила меня в идиота.
Вскоре послышался шум отъезжающей машины. Доктор Лейбман, подумал я. О’кей. Меня знобило: немного от страха, немного от волнения.
Начался день, как его можно назвать, окончательной переоценки. Но если я провел те часы в духовном самосозерцании, то Флоренс потратила их на практичные цели. О докторе Лейбмане она и не вспомнила. К нему она заглянула позже. А поехала она прямиком к своему адвокату, Артуру Хьюгтону. (Вообще-то Артур обслуживал нас двоих. Но потом, когда дело подошло к своей последней черте, он стал только ее юристом. Поставил на выигрывающую лошадь!) У них состоялось «предварительное обсуждение». Артур успокоил ее исходом некоторых интересных дел о разводах. В процессе беседы, полностью удовлетворившей Флоренс, выяснилось, что в ее руках находится тот самый бич, с помощью которого она, когда пришло время, выбила из меня абсолютно все и оставила мне из имущества и денег только меня самого и те самые злосчастные снимки. И то только потому, что она не хотела их больше видеть. Папочка Флоренс когда-то был президентом колледжа в Новой Англии (того самого, который я окончил), потом ушел на пенсию и стал председателем правления большой юридической конторы, негласно поддерживающей свою белую протестантскую сущность, где, кстати, работал и Артур Хьюгтон. Флоренс сказала мне как-то, пребывая в добром и беззаботном расположении духа, что она всегда презирала членов этой фирмы за их похожесть друг на друга и непохожесть на меня. Обстоятельства изменились, и она неожиданно для себя нашла, что ей нравятся даже их одинаковые физиономии. Еще бы, Флоренс убедилась, что ее надежно защитят. Это придало ей уверенности и объяснило ту разительную перемену в отношении ко мне буквально в тот же день.
В офис я не поехал. Гвен для передачи новостей звонить тоже не стал. Просто сел, свесив ноги в бассейн, и поздравил себя с тем, что момент, который я ждал в течение нескольких месяцев, наконец наступил. Да, да, джентльмены! Ни итальянец, ни испанец, ни, разумеется, француз не отдали бы свой дом, деньги и жену за сраный сучий зад! Ни один грек, древний или современный, не выбил бы из-под себя стул даже за мизерную долю вышеоговоренного, будь эта задница хоть как великолепна! Грек спокойно принял бы к сведению тот факт, что человек должен поступиться многими вещами, чтобы не потерять главного. На этой мысли я заснул.
Сон был черен. Я проснулся на подстилке у бассейна, почувствовав, что рядом стоит Флоренс. Но глаз не открыл, не будучи готовым к окончательному приговору. Оказалось, Флоренс держала в руке бокал с моим любимым сухим «Гибсоном» — а это всегда предвещало ее хорошее отношение ко мне. Она поставила бокал на столик, стоящий у креслица, рядом с которым я спал, и мягко сказала:
— Ужин через полчаса. Надеюсь, что новая служанка знает секреты кухни не хуже предшественницы!
И ушла. Ого-го, неужто мир ходит вверх ногами?! Логичнее было ожидать от нее удара бейсбольной битой, а не «Гибсон». Интересно, а Гвен поступила бы так же? Ни-ког-да. Я пошел в дом и состряпал себе второй бокальчик, двойной и сухой до ломоты. Затем прикинул, что коли ужин этот, судя по всему, последний в этом доме, то его надо встретить достойно, то есть одетым. Я отправился наверх и там увидел дальнейшее развитие событий.
На противоположной стороне от нашей супружеской кровати стояла софа. Флоренс застелила ее и уже выходила из комнаты. Увидев изменение, я спросил тоном обиженного мальчика:
— Я буду спать теперь там?
Она ответила:
— Ну что ты. Там буду спать я.
Вот уж не знаю, что случилось между ней и Артуром и во время визита к доктору Лейбману, но результат был шокирующим. Ужин превратился в праздник.
Со служанкой нам определенно повезло — блюда были выше всяких похвал. Флоренс оказалась достаточно сообразительной, чтобы заказать ей ее самые удачные кулинарные блюда. Забыл отметить — эта самая служанка, грузная матрона-негритянка, провела двадцать лет в еврейской семье! И в тот вечер она угостила нас кислым жарким, печеной картошкой, красной капустой и яблочным соусом. Пальчики оближешь! Добавьте бургундское, отобранное Флоренс, которое я открыл и нежно разлил. Были зажжены свечи. Проигрыватель играл Штрауса.
Эллен, сидящая с нами, была в курсе событий. В ее взгляде читалось неприкрытое удивление — мы вели себя как профессионалы. Флоренс показала класс. Она хранила хорошую мину при плохой игре. Будто у жизни есть свои плюсы и минусы, и с минусами надо бороться, а не поддаваться им. Она собиралась свести на нет как можно больше отрицательного и прожить болезненный период как можно безболезненней.
Догадаться, что думает или чувствует Эллен, я не мог. Как раз когда мы заканчивали с десертом, заявился ее хахаль, и Эллен, увидев его, облегченно вздохнула. Она поцеловала меня, странно взглянув, будто не решившись что-то сказать мне. Затем убежала наверх, не поцеловав Флоренс. Атмосфера вечера придала мне храбрости, и я попытался снять напряжение.
— Кажется, с этим парнем у нее какие-то проблемы? — сказал я.
Флоренс пропустила вопрос мимо ушей. Она была полностью поглощена нашей с ней проблемой. Если когда-либо природа и общество производили на свет женщину, не способную хитрить, юлить или притворяться, женщину, столкнувшуюся с бедой, но, несмотря на это, остающуюся несгибаемой и правдивой, — этой женщиной была Флоренс. Единственный способ познать человека, это посмотреть, как он ведет себя в стрессовой ситуации. В тот вечер, когда кровь из большой раны, нанесенной мной, лилась неостановимым потоком, когда ужасные когти моего сволочизма раздирали ей душу, Флоренс показала, кто она есть на самом деле.
Мы сидели в гостиной, на столике — два бокала «Драмби» и зеленые мятные леденцы. Она зажгла мне сигарету, длинную, тонкую, и курила, не затягиваясь, свою. Дым уходил в потолок. Мы молчали. Затем она, видимо, тщательно обдумав действия, взяла меня за руку и улыбнулась самой дружеской улыбкой. Я неожиданно почувствовал, что очень люблю ее. Казалось, что ее первая реакция на происшедшее — понять мою боль. И дать мне время собраться с мыслями.
— Дорогой! — сказала она. — Может, тебе пойти прилечь и постараться заснуть? Ты, наверно, устал? Тайн больше нет, зубами скрипеть не надо. Скрывать от меня нечего — твой сон будет нормальным. Ступай наверх. Поговорим завтра. Или послезавтра. Ступай.
И я решил последовать ее совету. Переполненный чертовским чувством благодарности за заботу и щедрость души, я поднялся наверх. И там подумал, что Гвен я еще не позвонил и ничего не рассказал и что если протянуть до утра, то, хорошо зная эту сучку, можно и не застать ее дома вовсе. Для разрыва ей не хватает моего краткого молчания — вся ярость, нечестность и унижение нашей связи и нашего с ней договора всплывут в ее голове, и следующий шаг — самолет на восток!